Ирина Николаевна тешила себя мыслью, что быть борцом не ее удел. И пусть это трусость или слабость, но она не может позволить себе ничего помимо хорошего знания литературы ее учениками. Нельзя ей рисковать: на ее попечении старушка мать и двое сыновей, которых еще предстоит поставить на ноги.
Сочинения, которые писали в этом классе, Ирине Николаевне нравились. Ребята тут подобрались умненькие и вполне образованные для своих лет. Прочитав их соображения о рассказе «Третий сын» Платонова, она с удовлетворением отметила, что Холодова знакома уже с послесловием к последнему изданию рассказов писателя. Толково и очень ловко переиначивала она на свой лад размышления литературоведа.
«Третий сын, — утверждалось в послесловии, — особенно требовательно отстаивает чувство единой жизни всех поколений, которое поддерживается спасительной скорбью по каждому отдельному человеку. Ничем нельзя, по Платонову, разделить людей, в том числе и самой смертью. Сила взаимного тяготения и делает людей не «пылью», а неуничтожимым и всемогущим человечеством».
«В рассказе «Третий сын», — пишет Холодова, — Платонов рассказывает нам, как по-разному переживают смерть матери шесть ее сыновей. Мы должны понимать, что писатель в своем творчестве отстаивает чувство единой жизни всех поколений. И если для нас не существуют те, кого уже нет, то нарушается связь времен. Никого нельзя считать «пылью», все люди находятся под влиянием силы взаимного тяготения, и именно это делает их всемогущим и неуничтожимым человечеством…»
«Поняла ли до конца Холодова, — подумала Ирина Николаевна, — что литературовед, объясняя художественно-философскую систему Платонова, показывает, как меняется и развивается она, следуя за жизнью, в середине и конце тридцатых годов? И то хорошо, что ученица не высказывает своего отношения к тридцатым годам! Кто знает, понравилось бы это новой директрисе, если бы она надумала прочитать сочинения?»
Она подчеркнула красным карандашом языковую оплошность: «в рассказе… рассказывается» — и, как всегда, поставила Холодовой «5» за содержание и «5» за грамотность.
Но по душе ей пришлись сочинения, в которых осуждались черствость и неблагодарность сыновей умершей старухи и восхвалялся третий сын, пытавшийся возвратить к печальному событию расшумевшихся братьев. Таких сочинений было большинство. Все ли одинаково думали? Во всяком случае, научились понимать, что следует писать, а что не следует, и выдерживали правила игры. Ирина Николаевна ценила тактичность.
Последним она прочитала сочинение Маши Кожаевой. Эта новая в классе девочка выводила ее из себя излишней свободой в общении и высказываниях.
«Мне рассказ Платонова не понравился, — искренне признавалась Кожаева. — Что Платонов хотел сказать? Что третий сын всех чувствительнее? Братья давно не видели друг друга, и они ведут себя как живые люди — обмениваются новостями, воспоминаниями. Гораздо хуже было бы, если бы они притворялись и лицемерили, изображая скорбь. Какое право имеет третий сын стыдить и поучать их? Что, он лучше всех знает, как правильно жить, и может указывать? Пусть каждый живет как хочет! Нельзя лишать личность свободы!»
Читая рассуждения Кожаевой, Ирина Николаевна все более раздражалась. Ишь! Защитница свободы личности! Все судят так, а она эдак! И какая черствость! Какой эгоизм! Ни капли душевности, сострадания!
«Твои рассуждения говорят о душевной глухоте», — сделала заключение Ирина Николаевна в конце листка с сочинением. И со злым усердием выправила все грамматические и пунктуационные ошибки. Возможно, она не осознавала, что в ней бунтует униженная смирением молодость. Тем более не догадывались об этом ее ученики, взрослеющие в иное время.
Сочинения, как и всегда, бурно обсуждались в классе. Когда очередь дошла до Кожаевой, Ирина Николаевна с подчеркнутым неодобрением прочитала вслух Машину работу и обнародовала свое заключение. Реакция оказалась непредвиденной. Кожаева вспыхнула, поднялась:
— Вы не смеете.
— Что я не смею? Оценить твое сочинение? — Ирина Николаевна не привыкла к дерзостям на ее уроках.
— Не смеете оскорблять! — твердо сказала Кожаева. — Я написала то, что думаю. Вам угодно, чтобы все думали одинаково? — Ее глубоко посаженные глаза стали наполняться слезами, а губы подергивались. — Хотите начинить наши головы одинаковыми продуктами и законсервировать до надобности? А я не хочу быть вашей консервной банкой!
Читать дальше
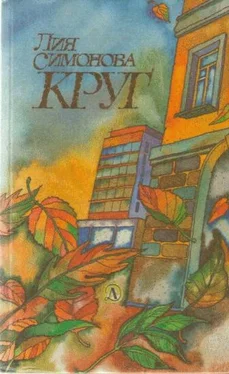
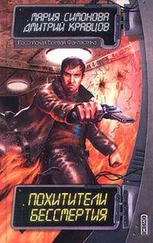


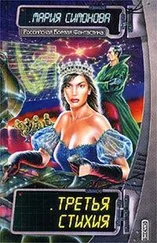



![Евгений Красницкий - Отрок. Ближний круг - Ближний круг. Стезя и место. Богам – божье, людям – людское [сборник litres]](/books/409214/evgenij-krasnickij-otrok-blizhnij-krug-blizhnij-kr-thumb.webp)



