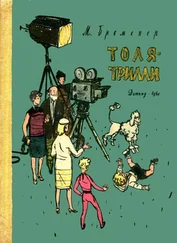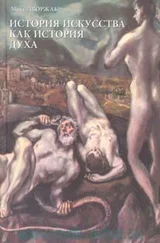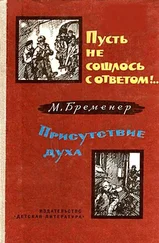— Гнедин тут ни при чем, — сказал Леонид Витальевич и поспешно отрицательно покачал головой. — Это мне абсолютно достоверно известно. То, что отец девочки — не он, бесспорно, ибо…
Он говорил еще с минуту, и хотя каждого его доказательства в отдельности было довольно, бургомистр не остановил его, пока он не привел их все.
— Ясно, я понял, — наконец сказал Грачевский и добавил: — Хорошо, что так… — Казалось, душевное равновесие возвращалось теперь к нему: не было на свете существа, в котором смешалась кровь Данилевского и Гнедина!
После паузы Грачевский произнес тираду. Морщась от боли, содрогаясь от брезгливого чувства, он говорил о послереволюционном поколении, о детях, в жилах которых смешалась кровь ученых и невежд, аристократов и лакеев, странней закона и убийц… Его ужасала непоправимость происшедшего и увлекала собственная речь. В продолжение тирады он несколько раз взглядывал на Леонида Витальевича, как бы спрашивая: «Видите, какие — высокого порядка! — причины вызывают мое волнение?!»
…С юношеских лет Грачевский поддерживал знакомство со множеством людей. Он добивался покровительства одних, расположения других, дружбы и союзничества третьих, от четвертых требовал, чтоб они уступили ему дорогу к благам жизни. Так было долгие годы. И в течение этих долгих лет он желал стать собеседником Леонида Витальевича. Ему представлялось, как они рассуждают о высоких материях. Эти беседы позволили бы ему считать, что он живет духовной жизнью. А ему нужен был повод так считать. В стольких разговорах о духовности участвовал он в студенческие годы, что не мог совсем об этом забыть. И стремился к жизни удобной, благоустроенной, неопасной и заодно уж духовной…
Однако Леонид Витальевич, легко дававший ночлег малознакомым людям, дававший взаймы всем, кто просил, в собеседники выбирал строго. Тут дверь не для всех была открыта, и Грачевскому редко удавалось к нему приблизиться…
— Тема, которой вы коснулись, вызывает много мыслей, — сказал Леонид Витальевич и увидел, как обрадовался Грачевский его словам. — Не стоит, может быть, об этом походя. Признаюсь вам: то, что мы в городской управе, не располагает меня к отвлеченным размышлениям. И немного боязно: вдруг прервется аудиенция, а я ведь не услышал еще вашего ответа. Вам будет стоить усилий спасти девочку или это не составит большого труда?
— М-да, — заметил Грачевский, встав, и Леонид Витальевич понял: ни то, ни другое, дело обстоит сложней.
— Скажу вам прямо, Леонид: мне бывает трудно совершать добрые дела одно за другим, подряд. Сейчас, в эти дни, я избавил двоих горожан от довольно суровых кар. Если б я совершал поступки только такого рода, то, понимаете сами…
«Какие вещи я должен понимать, да еще с полуслова, да вмиг, да как разумеющиеся сами собой!» — мелькнуло у Леонида Витальевича в уме.
— Добрые дела в моей практике неизбежно чередуются с…
«…злодеяниями», — мысленно подсказал Леонид Витальевич.
— …другими, — не запнувшись, докончил бургомистр. — И потому сейчас я… Кроме того: ведь у нас нет в запасе и двух дней!.. — Он осекся и не объяснил почему. — Вы сказали, девочка схвачена как еврейка? Значит, она уже в гетто. Как ее оттуда извлечь?! Может быть, мы с вами пойдем туда сейчас, чтобы найти ее среди сотен — нет, тысяч! — других и увезти? Так вы представляете себе это?!
— Так, — ответил Леонид Витальевич, видя уже, что все рушится, но не сдаваясь. — Так я себе и представляю: из уважения к памяти Данилевского мы с вами делаем это усилие и спасаем ребенка. И оба — и вы и я — не совершаем при том ничего недозволенного, ибо…
— Леонид! — произнес Грачевский, будто заклиная. — Но ведь это же нереально…
Тогда Леонид Витальевич поднялся и, ступая медленнее, менее твердо, чем желал бы, пошел к двери по мягкому, толстому ковру, в котором утопала нога.
— Я же вам с самого начала сказал, что почти ничего не могу, — горько, чуть даже покаянно проговорил ему вслед бургомистр.
— Почему же «почти»? — возразил, оборачиваясь, Леонид Витальевич. — Коли не можете помочь ребенку, значит — не можете ничего.
В коридоре он хватился: фотографии, которые дал ему Воля, остались на диване в кабинете Грачевского.
Леонид Витальевич вернулся в приемную, где, как заметил теперь, было тесно от посетителей, ожидающих бургомистра. На него вопросительно взглянула секретарша — средних лет женщина с густой копной волос, обесцвеченных перекисью водорода. Это было модно перед войной, но сейчас выглядело диковинным, потому что женщины в оккупации не красили больше волос — им было не до того, — а те, что красили, делали это, наверно, для немцев. Так, по крайней мере, казалось.
Читать дальше
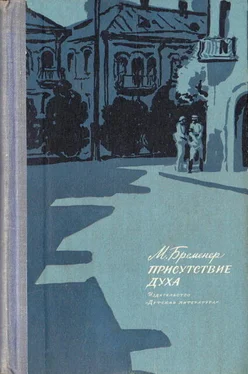

![Эми Кадди - Присутствие [духа]. Как направить силы своей личности на достижение успеха](/books/75845/emi-kaddi-prisutstvie-duha-kak-napravit-sily-s-thumb.webp)