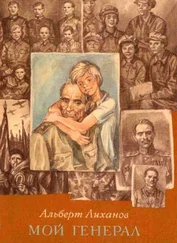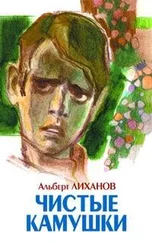Я провалился в забытье. Очнулся — может, через минуту, а может через пять, почти здоровым. Оказывается, доктор проткнул мне барабанную перепонку, гной вытек, и оставалось только долечить меня, а это уже, как меня утешали, вполне пустяки.
Доктор улыбнулся мне и ушел за перегородку.
Там он шумно надевал пальто с бобровым, пристежным, как заметила бабушка, воротником, мама шуршала какими-то бумажками, они тихо переговаривались, наконец, доктор опять заглянул в комнату. Коротко сказал:
— Поправляйся!
А взрослым добавил:
— Через три дня.
Дверь негромко притворилась, повздыхав за стенкой, вернулась мама.
Бабушка спросила:
— Много?
Мама рассмеялась:
— Да сколько бы ни было! Он его спас!
Они обе наперегонки завздыхали, а мама вдруг расхохоталась:
— За что же ты его так обозвал-то, а? Своего спасителя?
А я ничего не помнил.
Тогда бабушка вздела очки к потолку и передразнила меня:
— Та-ра-кан, Таракан, Тараканище!
Они смеялись! Еще час назад плакали, а я орал, а теперь вот смеялись надо мной, маленьким, а я не обижался, мысли медленно шевелились в моей голове, все какие-то ерундовые, неважные, и я тихо, без боли, которую прогнал от меня этот опытный человек, погружался в теплый, сладкий сон, думая на прощанье:
— А чего он колется?
Дня через три, как было велено, мы пришли к доктору Россихину. По дороге мама, уже не смеясь, а очень даже всерьез просила меня не обзывать его больше.
— А больно будет? — спрашивал я.
— Что ты! Все уже прошло! Только посмотрит — и все!
— Опять этим глазом? — унывал я.
— Зеркальцем, сынок, зеркальцем — оно освещает ушко, чтоб виднее. И все. Посмотрит и похвалит!
Еще она рассказывала, что доктора зовут Николай Евлампиевич, и он, может, самый лучший в городе ухогорлонос, да еще и живет от нас через пять домов, просто совсем рядом, и она сама не знает, как это ее осенило — побежать тогда к нему, а не ждать утра, чтобы тащиться потом в поликлинику и стоять долгую очередь.
Еще она говорила, что у доктора свой частный двухэтажный дом, такие дома вообще-то отбирали, но ухогорлоносу оставили, потому что он занимался частной практикой, и к нему, ежели приспичит, не такие, как мы, прибегают.
— А какие? — спрашивал я, и пока мама уклончиво-дипломатично пробовала перевести на уровень четырехлетнего ума социальное устройство общества, я, не дожидаясь завершения мыслей, как всякий почемучка, обгонял ее объяснения:
— А что такое частный дом? А частная практика?
Маме помогали разные детали, некоторые из них
выглядели блестящими в прямом смысле слова. На крыльце, куда мы поднялись, висела сверкающая табличка, как пояснила мама, с фамилией — именем-отчеством и медицинской специальностью доктора. Над ней немножко другим цветом, но тоже блестел пупырышек звонка. Мама подергала его на себя, и где-то внутри большого, с огромными, как мне показалось, зеркально чистыми окнами дома зазвенело.
Еще на улице я услышал звуки рояля. Кто-то в доме играл, даже звонок наш прозвучал вкрадчиво, будто стыдясь своего унылого однообразия.
Открыла женщина, нас, оказывается, ждали. Мы, наверное, слишком долго раздевались, главным образом из-за меня — мама с трудом стягивала с моих валеночек калошки, чтобы не наследить, а я держался за ее спину, и вот так мы пыхтели оба — мама от затруднения, а я от волнения — все-таки мне было страшновато и немало требовалось силенок, чтобы довериться маме и прийти с ней сюда, к Тараканищу.
Музыка из-за закрытой двухстворчатой белой двери все это время, пока мы раздевались, не умолкала, и я подумал, что мама нарочно не торопилась, слушая эти прекрасные звуки и стараясь им не помешать.
Наверх вела пологая, с блестящими перилами, светлая деревянная лестница, устланная голубой ковровой дорожкой — никогда я после такой красотищи не видал, — и, похоже, она меня успокоила, да и ухо ведь совсем не болело. Так что, протопав валенками путь по голубой ковровой речке и увидев доктора, я почти радостно крикнул ему:
— Здравствуйте!
Он снял пенсне, это такие очки без дужек, неизвестно, как они и держатся-то на носу, и спросил, с интересом вглядываясь в меня:
— А не боишься?
Я, видать, замер, соображая, и он прибавил:
— Тараканища-то?
И вдруг доктор ухогорлонос смешно пошевелил мне своими усами. Будто маленький самолет покачал крыльями. Я освобожденно засмеялся. А он пошевелил усами еще раз и еще.
Только теперь я оглянулся. Конечно, я сразу понял, что попал в необыкновенное место, но не чувствовал себя свободным, а был скованным, сжатым, как всякий человек перед неведомым испытанием. А теперь эта несвобода рассеялась, словно туман, и, глубоко вздохнув, я оглянулся.
Читать дальше