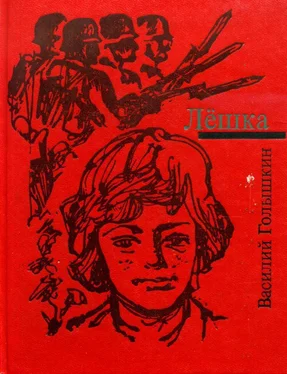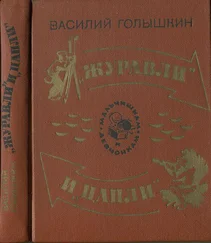— Лакомо…
Этот суп сделал их друзьями. Но бабушка, кажется, переиграла, сказав, что, ее внук, по известной причине, о которой она уже говорила, не достоин ни этого супа, ни мастерицы, его сварившей.
— Почему это? — надулась вдруг Катя. — По-моему, вполне достоин!
— Чего именно, — подсекла бабушка, — супа или мастерицы?
Обе посмотрели друг на друга и весело рассмеялись. Смех придал Кате смелости.
— Того и другого, — сказала она, и это было ее первое признание в любви, которое она сделала мне через бабушку.
В тот же день Катя уехала. Прощаясь с бабушкой, полюбопытствовала, где ее кеды.
— Мои кеды? — удивилась бабушка.
— Ага, — сказала Катя, — в которых вы в соревновании участвуете.
Катины глаза не смеялись, поэтому бабушка не обиделась. А докопавшись до истины, сама рассмеялась.
— Участвую, участвую, — сказала она, — только не на ногах, а на руках бегаю. И не по трассе, а по бегунам. Врач я, массажист. Вот доберусь до тебя и красоту еще краше сделаю. — Дотянулась, маленькая, до Кати и обняла. Как обручами стиснула. Катя удивилась: ну и сильная!
Все это я узнал потом, когда побывал у своих. Да и Катя о том же, смеясь, рассказывала…
Женщина Стрючкова была младшим начальником хлеба. Ее звали Ульяна Николаевна. А еще, за суровость, Ульяна-несмеяна. Над ней еще были главный инженер, директор завода, а она была заведующей производством. По должности ближе всех к рабочему классу, она на самом деле была от нас дальше всех, дальше главного инженера, дальше директора. Она всегда хмурилась, а если улыбалась, значит, в чем-то нуждалась. И тот, кому она дарила свою улыбку, знал: Ульяна Николаевна, улыбнувшись, тут же огорошит его просьбой: куда-нибудь сходить, что-нибудь принести.
Как-то после работы она увидела меня в проходной и улыбнулась.
— Алексей Иванович! — она была единственной, кто звал меня по имени и отчеству. — Не откажите слабому полу.
Сказав это, она протянула мне свой портфель. Я взял, и портфель знакомо звякнул.
— Мне рядом, — продолжала Ульяна Николаевна. — Через дорогу только.
Но я уже знал, куда она идет: сдавать бутылки. Увы, это были не «семейные накопления», как я подумал при первой встрече. Ульяна Николаевна, как сыщик, день-деньской шныряла по заводу и, руководя хлебным производством в общественных интересах, в своих личных — очищала это производство от стеклянной тары из-под молока и прочих напитков.
У заводских, бывало, кто-то рождался. Все скидывались на подарок. Все, но не Ульяна Николаевна. Заводские, случалось, изредка умирали. Все скидывались на венок. Все, но не Ульяна Николаевна.
На заводе получка. Все от кассы — кто в партком, кто в комитет комсомола, кто в завком платить взносы. Ульяна Николаевна прямым ходом в сберегательную кассу. Это единственное учреждение, с которым она поддерживает денежные отношения. Кассы всех остальных организаций — партийной, комсомольской и профсоюзной — она обходит стороной, потому что не состояла и не состоит ни в одной из них. Тем, кто интересовался ее семейным положением, она без всякой иронии отвечала: «Одиночка».
Она такой и была — одиночкой среди всех нас, неприкасаемым островком в море людей, сцепленных друг с другом, как капли воды.
Как «одиночке», ей выделили комнату в общей квартире. Ее соседкой была общительная Зоя Зайцева из нашей бригады. Как-то она принесла и пустила по рукам коробок с цифрой 41. Цифра на коробке была начертана рукой Ульяны Николаевны. А еще раньше той же рукой на том же коробке были начертаны и зачеркнуты цифры 60, 58, 55, 50, 45… Ульяна Николаевна, оставляя коробок на кухне, записывала для памяти число оставшихся спичек. А может быть, и не только для памяти… Однажды она пересчитала их, не постеснявшись Зои.
Я, наверное, казался ей мальчишкой. Иначе чем объяснить то, что произошло по дороге от завода до «стеклотары»? Началось с того, что она спросила о моих планах. Решив, что речь идет о сегодняшнем дне, и опасаясь с ее стороны покушений на мой вечерний досуг, я, не раздумывая, ответил:
— Закладка голубиной почты…
Она снисходительно усмехнулась, и усмешка эта эхом отозвалась в моем сознании: «Мальчишка, все еще голуби на уме». Она и повела себя со мной, как с мальчишкой. Но прежде уточнила:
— Я о планах жизни.
— А, — спохватился я, — печь хлеб!
— А потом? — спросила она.
— Опять печь хлеб!
— В детстве, — помолчав, сказала она, — мы все играли в лошадок. Вы кем любили быть?
Читать дальше