Я много знаю о подвигах женщин — выносивших с поля боя раненых бойцов, работавших за мужчин, отдававших свою кровь детям, идущих по сибирским трактам за своими мужьями. Я никогда не думал, что все это имеет отношение к моей матери. К тихой, застенчивой, обыденной, озабоченной только тем, как прокормить нас, обуть, уберечь…
Теперь я оглядываюсь на ее жизнь и вижу: она прошла через все это. Я вижу это с опозданием. Но я вижу.
Я шел под удивительно голубым лазурным небом — откуда в северном городе берется такая лазурь? И тут появилась низкая темная туча с острыми краями. Она перевалила через дома и быстро пошла на бреющем полете. Мне в лицо дохнуло льдом.
В следующее мгновенье я оказался запутанным в белую ледяную сетку. Я не мог из нее выпутаться, только отбивался руками, силился разорвать ее. А вокруг все гудело, стонало, кружилось. Жесткая ледяная крупа била в лицо, секла по рукам. И вдруг в сетке сверкнуло желтое помутневшее солнце — попалось в сеть! Раздался удар. Солнце погасло. Это было не солнце, а зимняя молния, гроза со снегом.
Туча все двигалась вперед. Она опутала ледяными сетями весь город. И тянула его за собой, сбивала с ног упругими нитями. Снова вспыхивало солнце и снова гасло. В городе стоял сухой грохот.
Новая вспышка высветила надпись на стене дома:
«Эта сторона наиболее опасна при артобстреле».
Я перешел на другую сторону.
На Пискаревском кладбище зеленеет трава. На Пискаревском кладбище большие могилы. Большие, общие, заполненные народным горем. Здесь похоронена моя мать.
Документов нет. Очевидцев нет. Ничего нет, за что можно было бы зацепиться пытливым умом. Но вечная сыновья любовь определила — здесь. И я склонился к земле.
Я глажу рукой траву Пискаревского кладбища. Я ищу сердце матери. Оно не может истлеть. Оно стало сердцем земли.
В лунный январский день над стойбищем Рын взлетел небольшой самолетик полярной авиации. На крыльях белели мохнатые наросты мерзлого снега, а сосульки вокруг двигателя торчали острыми рыбьими зубьями. Самолетик скользнул над ровными курящимися пирамидами чумов, лег на левое крыло, неуклюже поднял тяжелые широкие лыжи и ушел в сторону, ведомую одному ему. Его провожали люди в длинных малицах и олени, встревоженные грохотом мотора.
Самолетик летел низко над тундрой, и пустынное снежное пространство напоминало изнанку высоких облаков, и казалось, что сама земля — теплая и обетованная — находится где-то далеко внизу под ними.
В тесном фюзеляже на носилках лежала пассажирка, закутанная в олений мех. Она тихо стонала под ворохом тяжелых шкур. При свете лампочки можно было разглядеть обрамленное песцовой опушкой лицо с удивительно нежной кожей медового цвета. Настолько медового, что и пахнуть оно должно было бы медом. Но холод убивал все запахи. В узких, широко расставленных щелочках, между выпуклыми веками, поблескивали темные глаза. Казалось, глаза только начали прорезаться, а когда прорежутся, станут большими.
Рядом с носилками сидела усталая женщина — врач. Из-под пухового платка небрежно выбивалась прядь волос, то ли седая, то ли убеленная инеем.
— Потерпи, потерпи немного! — кричала она, стараясь пересилить грохот двигателя. — Будь молодцом!
Пассажирка не слышала ее слов, продолжала метаться. Отороченный песцом капюшон сполз на затылок, открыв высокий лоб с бисеринками холодного пота. Неожиданно она спросила:
— Я не умру?
— От этого не умирают, — ответила врач и осторожно провела ладонью по холодному лбу пассажирки. — Будь молодцом, скоро прилетим.
— А он будет жить?
Голос был очень слабый, и врач не разобрала слов, только по движению губ догадывалась, о чем ее спрашивают.
— Для того и рождаются, чтоб жить. Крепись, Сима!
Самолет гремел, и мелкая железная дрожь сотрясала его корпус. Его тоже колотил озноб.
Когда самолет, забравший роженицу, растворился в лунном фосфоре северного неба и его грохот оборвался как раскат выстрела, стойбище Рын пришло в движение. Одна за другой стали падать на снег ворсистые пирамиды чумов. Их сворачивали и грузили на нарты. И оленеводы, расставив руки коромыслом, качали ими из стороны в сторону, собирая стадо в походную колонну, при этом они издавали короткие гортанные звуки, попятные только оленям.
Стойбище Рын покидало безымянный уголок тундры, где не было ни деревьев, ни ложбинки, ни колодезного журавля — только снег, выщербленный копытами оленей, бугорки остывшей золы и след полозьев, сверкающий при луне нескончаемой узкоколейкой. Но даже и эти приметы просуществуют до первой вьюги. Останутся только звезды — золотые листья огромного темного дерева — неба.
Читать дальше
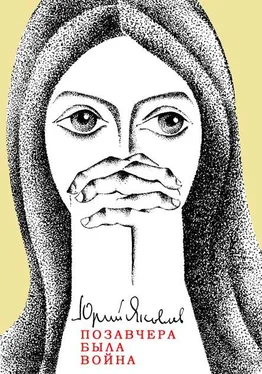







![Юрий Яковлев - Как Сережа на войну ходил [Сказка]](/books/419879/yurij-yakovlev-kak-serezha-na-vojnu-hodil-skazka-thumb.webp)



