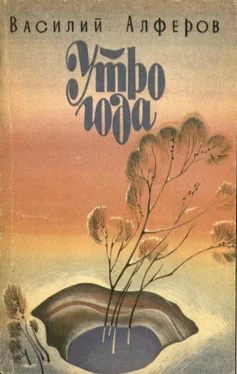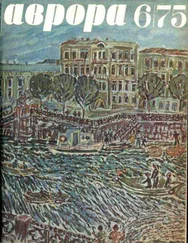…А масленица шла своим чередом. Внимание всех привлекали два табуновских зятя, приехавших из соседних сел на блины к теще и тестю. Они катались по улицам Заречья со своими молодыми женами на рысаках и, развалившись, сидели в санях городского фасона. Хмельные и сытые, они пели какие-то незнакомые песни. А когда сворачивали в наш курмыш, то каждый из них кричал своему кучеру:
— Придержи!..
И рысаки, все в мыле, дымясь паром, переходили на шаг. В это время забавы ради табуновские зятья брали из кульков, заранее приготовленных, горсти дешевой карамели и на обе стороны бросали в снег. Толпы ребятишек, в том числе и мы с Яшкой, глазевшие на катающихся, стремглав, точно на ученье легавые щенки за поноской, вперегонки бросались в снег и, барахтаясь, отыскивали в нем брошенные карамельки. Но мы не столько находили их, сколько втаптывали в снег. А пока ползали, шарили озябшими руками в одном месте, горсти конфет летели в другое место. И мы, вывалявшись в снегу, спотыкаясь и падая, бросались туда.
А вечером, когда в избах начинали зажигать огни, на всех улицах села завязывались кулачные бои. Подготовку к ним обычно вели ребятишки. Они собирались толпами, продвигались до середины улицы и, потрясая в воздухе кулаками, кричали:
— Давай, давай!..
На этот выкрик прибегали мальчишки с другого конца улицы и, подпрыгивая, как петухи, наскакивали на противников.
Мы с Яшкой норовили бить до сшиба только тех мальчишек, отцы которых живут богато. И больше всего нам всегда хотелось намять бока Микитке Табунову — широколицему, с узкими щелками глаз, коренастому и неповоротливому.
Дрались «по-честному»: без подножки, гирьки или свинчатки в варежки и рукавицы никто не прятал, лежачего не били. Яшка стремительно налетал на Микитку, ударял его кулаком в грудь, но тот держался крепко. Он неуклюже замахивался на Яшку, но я тут же подлетал на выручку и сильным ударом сбивал Микитку с ног.
Потом «стена на стену» дрались парни и мужики, оттеснив нас, ребятишек, на задний план. Дрались беззлобно. Только безлошадники, вроде Романа Сахарова, налетая коршунами на богатеев, скрипели зубами и били их с таким остервенением, что страшно было смотреть. «Самый удобный случай отвести душу, — говорили они. — А то поди тронь их, чертей, в другое-то время — со света сживут».
Дрались все, кроме попа, учителя и самых дряхлых стариков. Но и старики, которые еще крепко держались на ногах, выходили на улицу в качестве болельщиков, и каждый переживал за судьбу своей «стены».
Наша «стена» дралась отчаянно. Без лошадников считали отъявленными драчунами. И когда наша «стена» начинала отбрасывать противника, на выручку приходил сам Табунов Карп Ильич. Невысокий, плотный, лет пятидесяти двух, с огромными кулачищами, он был свиреп, волосат. От одного его взгляда нас, ребятишек, бросало в дрожь. Табунов приходил в тулупе черной дубки, в кухмарских валенках с мушками, без шапки. Молча снимал тулуп, бросал его на снег и, засучив рукава, кричал:
— А ну, братцы, за мной!.. Неужели уступим этой гольтепе? Не бывать этому! — И, выбирая мужиков послабее, сшибал их одним ударом с ног.
Неожиданно, точно из-под земли, вырастал однорукий Матвейка Лизун. Он хотя и не принадлежал к безлошадным, потому что у него был пузатый меринок мышиной масти, но поскольку этому меринку чуть ли не столько же лет, сколько и его хозяину, то Матвейку причисляли тоже к безлошадным. Сломав себе правую руку еще в детстве, он орудовал левой так, что другому и с двумя за ним не угнаться. Рука у Матвейки, как все говорили, тяжелая, бил он ею хлестко. И только, бывало, разойдется Карп Ильич, начнет валить слабых мужиков, точно пустые, обмолоченные снопы, как на него наскочит Матвейка и так ловко заедет с левши, что Табунов даже крякнет. Матвейкин удар злил Табунова. Он, как раненый зверь, страшно и разъяренно набрасывался теперь на каждого, кто попадался под руку. Слабые мужики уклонялись от него, налетали на других. Вторым ударом Матвейка сшибал Табунова с ног, и тогда «стена» противника начинала отступать. Табунов дрался только до сшиба, а поднявшись на ноги, долго растирал снегом лицо, шею и руки. Потом набрасывал на плечи тулуп и мрачный, с измятой бородой, уходил домой.
Но вот и последний день масленицы — так называемое прощеное воскресенье. В этот день заговлялись молочной пищей на целых семь недель.
Щедро подавали в канун прощеного воскресенья «потайную» милостыню. Потайной она называлась потому, что ее подавали ночью, тайком от всех. И тот, кто получал такую милостыню, считал ее «боговым посланием».
Читать дальше