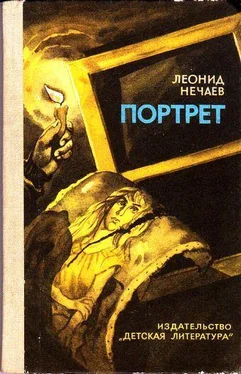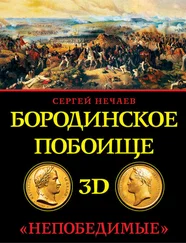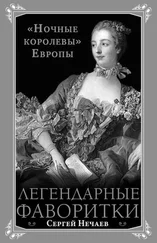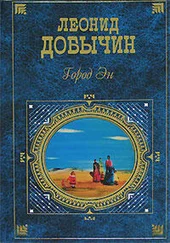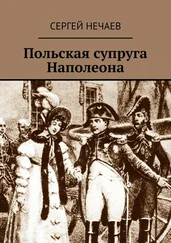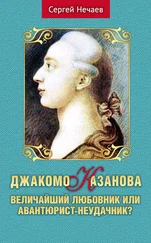В сенях Женя уловил запах духов. Значит, здесь недавно прошла Талька.
От радости не осталось и следа — запах духов мгновенно переполнил Женю горечью.
— Мы, мужчины, такие, в сущности, подростки, когда речь идет о тайнах любви…
Это заливался Хлебников.
Женя остановился в сенях не нарочно — просто его задержал на секунду запах духов. Когда он сделал следующий шаг, чтобы как можно скорее проскочить сени, забиться к себе в комнатушку, не слышать пошлой болтовни Хлебникова, дверь с родительской половины тихонько отворилась, и из двери Женю поманил рукой отец.
Отца трясло. Он бормотал, что ему и во хмелю не сладко, что он и выпил-то всего две кружки пива и каплю водки для храбрости и что сию минуту прогонит Хлебникова. Женя ничего не отвечал. Стояние в сенях как-то сразу лишило его сил. Он привалился спиной к косяку и подумал, что, пожалуй, было бы хорошо, если бы отец в самом деле прогнал Хлебникова. Потому что все это становится мучительным.
Отец подошел к двери Хлебникова, занес руку, чтобы постучаться, да замялся, постучался в воздух, оглянулся беспомощно на Женю. «Эх ты… — устало подумал Женя, уже с безразличием наблюдая за отцом. — Слабо тебе».
Отец так и держал руку на весу, не в силах ни постучаться, ни отступить. Видя его позор, Женя ступил к нему, взял за плечи, развернул и молча отвел от двери. Отец еще упирался, слегка, ради некоей стыдливой чести…
Плотно притворив за собою дверь, Женя, не глядя на отца, лег, накрылся подушкой, чтобы ничего не видеть и не слышать, а отец нервно ходил по комнате и громко шептал:
— Проживем и без его десятки!.. — Потом сел в ногах у Жени, затих.
Женя думал, что лучше всего было бы бросить школу, уехать, чтобы не видеть перед собой острых, всегда настороженных Талькиных плеч, всякий раз не ловить в сенях след духов. Не видишь — не бредишь. С глаз долой, и все будет, как прежде, когда еще и не было ее. Только будет ли, как прежде?
И от кого он уедет — от слабых своих родителей? Он, сильный, он, опора их и надежда…
Женя сбросил с головы подушку, встал. Велел отцу лечь спать, а сам вышел в сени. Без всякой стеснительности и неловкости постучался к Хлебникову, вошел.
Талька сидела в кресле.
— А, Евгений, здравствуй! — сказала она.
Хлебников нахмурился было, но тотчас изобразил широчайшую улыбку, жестом приглашая ученика приняться за работу — ведь натюрморт еще не был дописан. Женя молча взялся за кисть. Хлебников трудился над Талькиным портретом.
Талька спросила у Жени, как там Марго, и когда Женя ответил, что Марго задает ему точно такие же вопросы о ней, Талька хохотнула, а потом передернула плечами, словно вдруг озябла.
Она обращалась с разговором почему-то только к Жене, как будто дождалась возможности поговорить с ним. В школе она избегает даже его взгляда, а тут разговорилась, будто соскучилась. Она просит Женю никогда не хмуриться, потому что от этого могут быть морщинки. Она говорит, что Женя типичный интроверт, то есть человек, чьи мысли и интересы направлены исключительно в свой внутренний мир; что он ужасно закомплексован; что нужно брать пример с Хлебникова — тот всегда уравновешен, всегда в мажоре, всегда доволен собой и всеми. Хлебников счастливый человек — морщинки у него появятся не скоро.
Хлебников остро взглядывал на нее из-за мольберта и терпеливо сносил иронию.
— Евгений, — произнесла Талька с той же непринужденностью, с какой говорила о морщинах, но при этом в интонации ее послышалась едва различимая тревога, — мы с Любомиром Фаддеичем все больше о любви рассуждаем… А вот на твой взгляд, что такое любовь?
Женя не смотрел в ее сторону, но ощущал, как она напряглась, как вся подалась к нему, ожидая ответа.
«Странно все происходит, — думал он, — я признался ей в любви без нее, в безлюдном поле, она же спрашивает о любви в присутствии Хлебникова… Зачем она спрашивает? Кажется, она слишком уверена в том, что Женя стерпит все, даже то, что стерпеть нельзя».
Он рад бы возненавидеть Тальку за ее хождение к Хлебникову, за эту непринужденность, что больше похожа на развязность, за страх перед морщинками, в котором видна была вся глупость девчоночьего короткого ума, за болтовню о любви, — но ненавидеть не мог. И не потому не мог ненавидеть, что оправдывал ее хождение к Хлебникову необходимостью позировать, и не потому, что развязность ее искупалась иронией, и не потому даже, что о любви она, конечно же, не болтала, а спрашивала, и спрашивала тревожно, решаясь выдать я себе что-то такое, что никак не хотела бы выдавать, — не мог ненавидеть хотя бы уже потому, что едва сдерживал свое сумасшедшее желание припасть лицом, губами к ее судорожно вцепившимся в подлокотники пальцам, пальцам тонким, побелевшим, к ее пугливо поджатым коленям, к тупоносым туфелькам, зеленым, наивным, словно младенческим…
Читать дальше