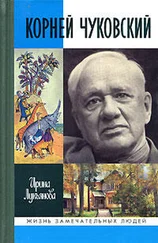Неизвестно, сколько бы еще она прожигала взглядом астаповскую шею — удивительно еще, что он ни разу не обернулся, — хотя нет, обернулся один раз и сказал «Николаева, дай карандаш», и она машинально ответила «щаззз» — в смысле, обойдешься.
Разумеется, это была весна — да, весна девятого класса. Снег еще лежит, солнце уже жарит, несмотря на выгоревшие желтые шторы, уже печет левую щеку, руки стягивает сухость от мела и тряпки, и блаженная пустота — ничего не слышно, и блаженная слепота — посмотрела на солнце, теперь в глазах тьма и сияющие багровые пятна, а за ними маячат образы, за которые потом будет перед собой же стыдно.
Помешала этой идиллии Лизка Лаптева. Лаптева в сентябре пыталась сбежать из комнаты, где ее запер отец, запретив гулять, через балкон третьего этажа — переползала на второй, свалилась, сломала позвоночник. Она долго лежала в больнице, потом училась дома, к ней ходили учителя, и только весной пришла в класс, неестественно прямая. На переменах она вставала коленями на стул, локтями на стол — и с кем-нибудь болтала. Учителя пытались выгнать ее из класса на переменах, а она отвечала «мне рекомендован отдых в коленно-локтевом положении, я не могу в коридоре стоять на четвереньках».
Лаптева вошла в класс, посмотрела, где есть свободное место, и плюхнулась рядом с Асей.
Лизка дерзила учителям, носила учебники в расписной сумке, вместо формы надевала черное платье, а серьги себе делала сама из гвоздиков от щетки-массажки. То заплетала двадцать косичек, то одну, зато с ярко-желтыми шнурками от кед. То вдруг остриглась под мальчика. Лизка умела даже в этой школе чувствовать себя спокойно. Ася так себя вести не решалась — только потому, что за каждый свободный вдох ждала расплаты: будут выговаривать долго и нудно, пилить голову, капать на мозг, будет больно.
«Ну и фиг», — пожимала плечами Лаптева, с нее эти выговоры скатывались, как с гуся вода. И уже на второй неделе знакомства Ася осмелилась, наконец, вставить в уши английские булавки, украшенные бисером.
Две недели они увлеченно болтали и переписывались, а на третьей Лаптева раскрыла Асину страшную тайну. «Письмо», — сказала она. — «Письмо Татьяны Онегину. Вот что нам нужно».
«Уважаемый сударь, — написали они ему вместе, хихикая и пихая друг друга локтями. — Вот уже третью неделю мы с любезной подругой („подругою“, — поправила Ася) замечаем, как исчезают наши вещи, как-то: карандаши, транспортиры, логарифмическая линейка и таблицы дядюшки Брадиса. Будучи даны вам на время, они никогда не возвращаются боле, и ежели на карандаши и транспортиры мне начхать, то логарифмическая линейка денег стоит, а таблицы дядюшки Брадиса библиотечные. Будьте милостивы, возвратите мне вышепоименованные принадлежности, а взамен могу обещать вам что угодно, от прогулки в солнечный день по придворному нашему парку до списать алгебру, если на то хватит вашего благородства. Возвратить все сие можно мне послезавтра, апреля пятнадцатого дня, в три часа пополудни, на левом запасном крыльце учебного заведения нашего, или отвечать письмом по адресу…»
— Я не дам свой адрес, — сказала Ася. — Он догадается.
— Да ну, — сказала Лизка Лаптева. — Он что, в журнал полезет?
— Ну тогда давай твой оставим. А подписать?
— NN, — уверенно сказала Лизка.
— Почему?
— Настя Николаева.
— Меня никто Настей не зовет.
— Ну и фиг.
Письмо на перемене сунули Астапову в алгебру. Астапов прочитал, но оглядываться не стал. Линейки, карандаши, ручки и таблицы Брадиса он собирал со всего класса, потому что своих никогда не носил.
— Как ты думаешь, он понял, кто? — шепотом спросила Ася.
— Не-а. Придет и поймет.
Он пришел. Но не послезавтра на запасное крыльцо, а завтра — домой к Лизке, по указанному адресу. Дверь открыл Лизкин отец, но в прихожей валялась ее приметная узорчатая сумка.
— Вот это — передайте, пожалуйста, — выдавил Астапов, пихая отцу Лаптеву пакет, набитый карандашами, транспортирами и таблицами Брадиса — все, что нашел дома.
— Пап, там кто? — закричал из комнаты Лизкин голос, но Астапов уже скатился по ступенькам.
Назавтра Лизка нашла у себя в учебнике алгебры письмо. Письмо было личное, предназначалось Лизке до такой степени, что Асе она его даже не показала. Встречаться на запасном крыльце пошла Лаптева, а Николаева сидела дома на окне, смотрела на круги от дождя на луже и мечтала сдохнуть, потому что ничего у нее не получается.
А через год, в десятом классе, Лизка публично надавала Астапову по роже, а он в ответ влепил ей пощечину. Лизка плакала в туалете на третьем этаже, а Ася ее утешала и приговаривала, что он козел, что она ему пойдет и набьет рожу, и сама с ней плакала, и гоняла пятиклашек, которые ломились в дверь. А Астапов снился, и снился, и снился, и перестал сниться только на первом курсе, когда уже стал неинтересен даже как воспоминание.
Читать дальше