«Теряя ключи, забывая пароли…»
Теряя ключи, забывая пароли,
вперяя вопрос в облака перьевые,
с ремарками вызубрив первые роли,
хотя не предложат и роли вторые,
ни брассом, ни кролем житейское море
смирить не пытаясь. От качки до качки –
назад отмотав, разгляжу при повторе
себя в бултыханиях смелой собачки.
Она за буйки… Интересное дело,
как будто за брошенной Господом палкой!
Ей тоже в тумане, похоже, белело…
Ни глупой она не казалась, ни жалкой.
Так вот и меня – никогда не пороли,
ни в детстве, ни в смысле обид – переносном.
И не было мне ни покоя, ни воли,
лишь детская вера на свете на взрослом.
Голубь лазоревый. Может, зелёнкой
выкрасил гулю какой-то балбес?
Что же до зрителей с психикой тонкой,
вне подозрений посланец небес.
Головы к небу задрали подруги,
три неофитки из тех выпускниц
школ благородных девиц кали-юги,
сами диковенней крашеных птиц.
Эта – Фотиния. Светка, короче,
в чём-то закрученно-алом до пят.
Та – в золочёных браслетах сорочьих,
и до бровей помрачительный плат
голубю в тон… подтверди, Вероника!
Я то и вовсе в мужицкой джинсе:
девочка, мальчик? Поди разбери-ка,
вроде пацан, но при длинной косе.
Зыркает голубь на нас непредвзято,
мы, изумлённые – на сизаря.
«Светлое завтра» из кадра изъято,
и, вероятно, изъято не зря.
Чтобы запомнили вспять ликованье,
к матушке Ксении первый визит:
думали, души несём на закланье,
вышло – дешёвенький свой реквизит.
Чтобы заштопали швы девяностых
в памяти нашей и et cetera
окна икон на Васильевский остров,
голубь лазурный над чашей двора.
Такая бабочка над ним
крылатый размыкала нимб,
как поцелуй Христа в чело –
такое небо в ней цвело,
что мальчик выгнулся до дна
своих зрачков, и дно двойное
его вело, куда вольно ей.
Мелькнёт – и снова не видна.
Он видел рай. Я вижу ад.
В музее выставленных в ряд
четыре тыщи экземпляров
павлиноглазых фей, икаров…
Сачок-рампетка под стеклом.
Ты им как вид была открыта,
нимфетка, бабочка lolita,
и поздно сожалеть о том.
Лес препарирующих игл
омыт лучами детских игр.
Пыльца на пальцах – кровь почти,
но в старце мальчика почти.
Средь радуг мёртвого эскорта
вне зоны действия сети
прости, прости его, прости!
Смахни с лица морщины чёрта!
Тридцатые годы, но время не суть.
По лестнице старую арфу несут
под марши Осавиахима
недюжинных два Серафима.
Петров Серафим
и по правую с ним
вполне себе Кац,
но и он Серафим.
Так звёзды легли и берёзки,
что в паре работают тёзки.
Взывают ли трубы, ревёт грузовик
изнаночным эхом бравурных муз ы к
у выхода… Дивная, Вы хоть,
внемлите себе, это – выход!
Ваш выход, сударыня!
Да, «запасной».
Вот-вот полыхнёт нашатырной весной
сквозь ваши чехлы и обмотки
от центра Москвы до Чукотки.
В избытке у свежей гармонии нот
на лестничный ваш молчаливый пролёт
в заверенном званье балласта
во славу Екклесиаста.
Труба ли взывает,
гудит ли клаксон,
бесполая Муза, как мальчик-гарсон,
вам двери придержит на Вы и,
не морщась, возьмёт чаевые.
Пока носила передачи
былая львица сыну Льву,
она походкой старой клячи
обзавелась. Пока молву
топтать не поступью, а шорком
гордыне сношенной пришлось,
глядеть в упор голодным волком
голодный научался лось,
и зайка серенький в лисицу
вселяться заживо, пока
ёж, превращаясь в рукавицу,
утюжил львиные бока.
«Похож на мать, – твердили сыну –
с горбинкой нос и лоб высок!»
И кляча прёт через грязину,
стянув потуже поясок.
«Подставлял Господь дураку плечо…»
Подставлял Господь дураку плечо.
Попривык дурак:
Подавай ещё
высоко сидеть, далеко глядеть!
Уронил – поймай, не чужие ведь.
А уж я Тебе отслужу, Христос,
упрежу Твоих – тише вод – невест.
И пока Господь его в гору нёс,
не спросил дурак:
Где, Господь, Твой крест?
Тысячекратная тьма повторенья
танца теней Саломеи с Иудой.
– Нет!
Ещё Иродова даренья
нет!
Не вернулись посыльные с блюдом,
нож не рождён ещё.
Незачем, нечем,
некому…
Спящий во чреве Предтечей
день не восстал.
– Удались, удали!
Жорж приглашает на вальс Натали.
Нежный румянец прильнул к эполете…
Танец как танец. Дети как дети.
Читать дальше


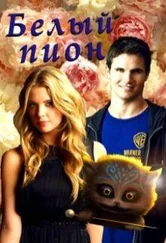




![Ирина Богатырева - Белая Согра [litres]](/books/396714/irina-bogatyreva-belaya-sogra-litres-thumb.webp)
![Ирина Батакова - Белый, красный, черный, серый [litres]](/books/397482/irina-batakova-belyj-krasnyj-chernyj-seryj-litr-thumb.webp)



