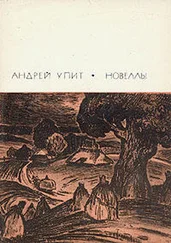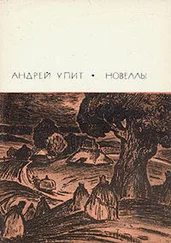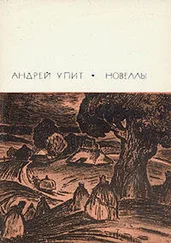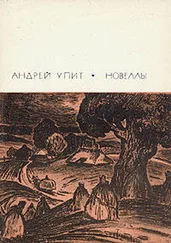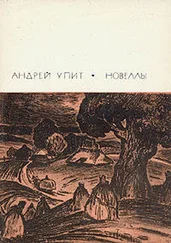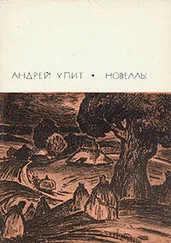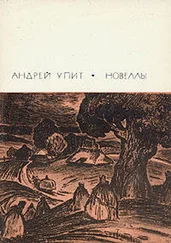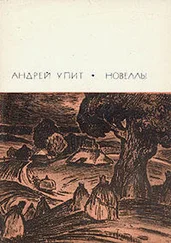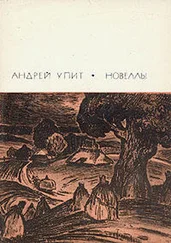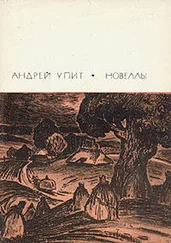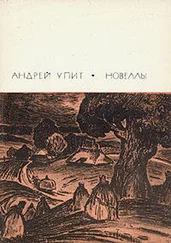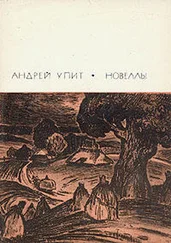Когда последние ели остались позади, все разом застыли в изумлении.
В низине за холмом что-то горело. Громадное облако дыма медленно всплывало вверх, а снизу кое-где вздымались красные языки пламени. Ветерок дул с той стороны, все Замшелое было окутано легкой дымкой, — оттуда-то и доносился вроде бы запах щей и пирогов.
Мужики не сразу опомнились от удивления, а потом загомонили в один голос:
— Лес подожгли, окаянные!
— Ранней-то весной, когда кругом этакая мокреть? Все равно бы не разгорелось.
— Так это же на нашем замшельском пастбище!
— Так и есть! На самом пастбище.
Тут уж и впрямь было чему дивиться. Топкое пастбище еще труднее поджечь, чем сырой лес. Но ведь они своими глазами видят там огонь… Где же тогда скот? Ведь каждый год, как только вдоль русла ручья зацветет первая калужница, а на полях зажелтеют одуванчики, замшельцы выгоняли свой скот на пастбище, потому как ни у одного хозяина не оставалось ни клочка сена, ни единой соломинки. Корову на ноги приходилось за хвост подымать. Понятно, на хороший корм там рассчитывать было нечего, но все же хоть с голоду не подохнут. Овцы ощипывали каждый чуть проглянувший росточек, летом трава так и не вырастала, отощавшее стадо рвалось на поля, умаявшиеся пастухи ног под собой не чуяли и все равно никак не могли устеречь скотину. Но ведь этак повелось еще с отцов и дедов, неужто же нынче пойдет по-новому?
Пожар на пастбище так и остался неразгаданной загадкой, а в самом Замшелом воротившихся лесорубов ожидали еще более диковинные чудеса. Перво-наперво из дымной пелены вдруг вынырнула избушка Ципслихи. Избушка такая же, как и раньше, но зато с новой крышей, еще желтой, видать только-только крытой и с новой ладной беленькой трубой. Но это было еще не все. На дворе стояли две кровати, материна и дочкина, стол, скамейки. Дверь была распахнута настежь, и — диво дивное, мужики глазам своим не верили! — даже окошко было отворено. Кто же не знал, что это окошко, недвижимое, неприкосновенное, вот уже сотню лет было накрепко заколочено подковными гвоздями. А теперь открыто! Открыто настежь! Мужики притопали к нему, пригнувшись, заглянули: может, в избе какие-нибудь чудеса? Так и есть. На табурете стоял Ешка и насвистывал . В глухом лесу был дом».. В одной руке у него было ведерко с известкой, в другой — кисть, которую он смастерил из кобыльего хвоста. Паренек шлепал кистью в такт песне и так боялся сбиться, что не обратил ни малейшего внимания на стоявших за окном. Потолок в избушке был белый, печь белая, теперь Ешка белил стену, старательно замазывая проконопаченные мхом пазы и трещины. Насвистывал он весело и задорно, но кисть так злобно и беспощадно шуровала все щели, будто маляр задумал выудить оттуда последнего паучка.
Толпа лесорубов пришла в движение, все недоуменно пожали плечами и потихоньку двинулись дальше. Когда они уже прошли несколько шагов, Таукис наконец обрел дар речи.
— Рехнулся малый! — проговорил он, понизив голос. — Потолок белый, стены белые, в такой избе и задымить не вздумай!
— И трубочку не посмеешь выкурить! — поддакнул Плаукис.
Но впереди чудесам не было конца. Только теперь они заметили, что двор у вдовы сухой, как в самую жару летом. Места и узнать нельзя. Лужи, где свиньи валялись до самой глубокой осени, были засыпаны крупной галькой, изгородь заделана новыми прутьями, и на ней в лучах солнца белелся длинный, не менее чем в пятьдесят локтей, кусок полотна на рубашки.
От двора прямо к реке вела новая ровная дорожка — должно быть, по ней зимой из речки возили воду.
Пожимая плечами, покачивая головой, мужики шли от дома к дому, и чем дальше шли, тем больше дивились, тем меньше говорили.
Через все село тянулась ровная, как доска, дорога, со взгорья спускались канавы для стока талых вод, через ручьи перекинуты крепкие мостики из тесаных бревен, пристукнешь сапогом — так и гудит… Вокруг всех огородов — изгороди, чтобы скотина не потоптала, когда ее гонят на выгон. Нигде не видать ни единой навозной кучи, на каждом дворе у клети, где колют дрова, все чистехонько подметено, у стены, на солнечной стороне, сложена поленница сухих дров, а подле нее толстая сосновая колода для рубки хвороста, на ней — дубовый клин, чтоб легче раскалывать сучковатые чурки. Одна-единственная ворона со скучающим видом облетела село и, досадливо каркнув, повернула обратно в лес. Да, это тебе уже не прежнее привольное житье!
В избушке пряхи такая же чистота и порядок, как и у Ципслихи.
Читать дальше