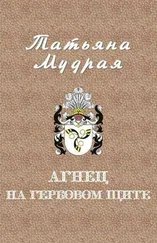Иногда немцев мы слышали. Они переговаривались на своем языке и, конечно же, шли в полный рост, не сгибаясь в три погибели. Им некого было бояться, их не мучили раны, они не умирали от жажды. И у нас одновременно со страхом начинала накипать ненависть. Но страх был сильнее, поэтому мы лежали замерев. Лежали и ждали, пока немцы отойдут подальше.
Когда немцев не было и не было слышно, Вано хрипел:
— Пашли…
И мы тащились за ним…
Наконец мы совершенно выбились из сил. И когда опустились на прокаленную сухую земляную корку, на сухие стебли пшеницы, Вано сказал, раздирая запекшийся рот:
— Днем нам не выбраться…
Помолчав, прохрипел:
— Будем ждать ночь…
Мы отупело молчали. Ночь так ночь. Нам уже было все равно: идти ли и жариться на солнце или сидеть и жариться. Мы с ненавистью смотрели на солнце, в белесое раскаленное небо и тоскливо мечтали о тучах. Ну хотя бы небольшая, хотя бы махонькая тучка, чтобы хотя на минуту оказаться в тени…
И тут появился вражеский самолет. О том, что это был разведчик, я узнал позднее, повоевав на фронте, а тогда для нас это был просто одномоторный самолет с четкими крестами на фюзеляже и крыльях. Он пронесся над нами с оглушительным ревом, и Вано, накинув каску на голову, метнулся в сторону, а следом за ним побежали и мы. За короткое мгновение, пока самолет пронесся над нами, вражеский пилот успел нас заметить, даже, пожалуй, разглядеть, кто мы. Может, нас выдали каски, может, то, что мы сразу же бросились бежать, а может, и то и другое вместе, только самолет развернулся и помчался прямо на нас.
— Лажись! — отчаянно закричал Вано и первым уткнулся в землю.
И не успели мы упасть, как черная тень пронеслась над нами. Тугая струя воздуха склонила к земле пшеницу, ударила в лицо раскаленной пылью. Как по команде, мы снова вскочили на ноги, побежали что есть духу, так как самолет опять заходил по кругу. Мы бежали и падали, бежали и падали, глотая горячий воздух, и голова шла кругом, и сердце, казалось, вот-вот разлетится в клочья, а вражеский пилот все гонялся за нами. Он то мчался над полем, почти касаясь пшеницы, то свечкой взмывал вверх и оттуда коршуном падал вниз.
Наконец мы свалились с ног. Лежали, загнанные насмерть, со стоном вдыхали воздух, и немец, пожалуй, понял, что больше нас не поднимет. Тогда он зашел еще раз и ударил по нам из пулеметов. Сквозь гул, нарастающий рев до меня донеслось сухое короткое чавканье, мгновенно рядом зашипело, зачмокало, на сжатые плечи, втянутую голову, прямо в лицо сыпануло горячей землей. Впереди кто-то вскрикнул, я открыл глаза и увидел темные ямки, тянувшиеся ровной строчкой. Моя левая рука, сжимавшая гранату, лежала между двумя ямками, которые еще курились дымком.
Я отдернул руку, не удержался, опрокинулся на спину. И опять увидел самолет. Он падал прямо на меня, а по обе стороны нацеленного носа, на крыльях, танцевали острые огненные язычки. Снова зашипело, зачмокало, обсыпало землей — и теперь уже не вскрик, а дикий нечеловеческий вопль несся впереди меня. Кто-то кричал и кричал, и это надрывающее душу, бесконечно-болезненное «А-а-а-а!» заполняло весь простор. Казалось, это кричит, бьется в конвульсиях смертельно раненное поле. Ибо человек не мог так кричать…
Когда самолет улетел, я, качаясь, поднялся. Противно дрожали колени, перед глазами раскачивалось окрашенное в красное поле, как залитое кровью. Черный тошнотворный клубок стоял в горле, а я не мог ни проглотить его, ни выплюнуть. Рот стянуло, как резиной…
Уже никто не кричал. Стояла тишина, как на кладбище.
Сначала я увидел Вано. Он все еще словно прятался от самолета, прикрыв голову каской, упав лицом на руки. Но на каске зияла рваная дыра, а земля вокруг чернела жирным пятном. И первые мухи ползали по этой кровавой луже, слетались и садились на каску, на забрызганные кровью руки.
Второй мой товарищ лежал немного дальше, перевернувшись на спину. Смертельная строчка прошила в первый раз ноги, а потом — живот. Он так и умер с раскрытым от крика ртом. Он истек этим криком, как истекают кровью. Он и сейчас продолжал безмолвно кричать, и застывший тот крик бился в черном провале рта. А из руки, из намертво сжатой ладони тоненькой струйкой стекала перетертая в пыль земля. И там, куда она ссыпалась, вырастала остренькая пирамидка. Она то поднималась вверх, то вдруг оседала. А земля сыпалась, сыпалась, сыпалась, бесшумно и жутко, словно убитый весь был наполнен этой пылью и истекал ею на хлебную ниву.
Читать дальше