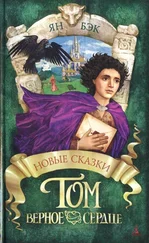Еще не замолк колокольчик, а ксендз Делюль первым схватил классный журнал и верткой своей походкой заспешил к выходу. «Все еще ставит на него Дерябин или нет?» Гриша сам удивился своей нелепой мысли. Разве об этом надо думать сейчас? Уже и Мухин пошел к дверям. А вот и Арямов, большой, добрый. Ему бы рассказать обо всем! Нет. Ушел Арямов. У Гриши перехватило горло. Держись, Шумов! Держись изо всех сил. Слезу у тебя не выбьют!
Вот кряхтя поднялся и Голотский, увидел упрямое, несчастное Гришино лицо и сказал удивленно:
— Ты еще здесь? Ступай на урок! А после уроков отсидишь. Посидишь, добрый молодец, да подумаешь, как на свете жить дурачинушке.
Он опять был в добром настроении, Лаврентий Лаврентьевич. Не спеша пошел он к выходу под руку с Резоновым — высоким, красивым, кудри до плеч. Живут на свете счастливые люди, смеются, шутят…
Уходя, Гриша в последний раз взглянул на Виктора Аполлоновича. Глаза у того по-прежнему были безмятежные.
Не только Голотский — свой же брат учащийся не поверил Григорию Шумову!
Никаноркин не поверил:
— Ты в самом деле не бросался мелом?
— И не думал.
— Мне-то можешь сказать правду.
— Говорю: не бросался!
— Может, швырнул ненароком, да и забыл потом?
Гриша замолчал, до того рассердился.
— Не мог же он выдумать? — продолжал неугомонный Никаноркин. — Ты что надулся? Я, что ли, виноват?
Запись в кондуит в приготовительном классе — дело редкое. Это не то, что во втором или в третьем: там уже имеются — на виду у всех — «отпетые», «чудилы»; есть и «отчаянные» — не сегодня-завтра их исключат из училища. А откуда «отпетым» взяться среди приготовишек?
На переменах около Гриши собиралась целая толпа.
Были и такие, что советовали ему «признаться» начальству, извиниться, — тогда, может, все кончится отсидкой, а в кондуит не запишут. Кондуит — дело серьезное: раз запишут, два запишут, а там — тройка по поведению за четверть года. Раз — тройка по поведению, два — тройка по поведению, а там, глядишь, и выгонят.
— Я бы на твоем месте признался, — сказал Персиц.
Вот! Свои же не верят!
В отчаянии Гриша подстерег Голотского после уроков на крыльце училища и начал объяснять ему, «как было дело».
Голотский перебил:
— Так чего же ты хочешь? Чтоб я поверил тебе, а не надзирателю? Ты только подумай, какая чепуха лезет тебе в голову.
Тридцать пять лет учительствовал Лаврентий Лаврентьевич Голотский и за эти годы не разлюбил своего дела. А значит, по-своему любил он и своих учеников, которых, правда, не уставал обзывать «дубинами», «лоботрясами», «пучеглазыми», «гололобыми» и другими кличками. Клички эти не считались обидными: то ли привычны были, то ли тон у Голотского был не злой.
Долгую жизнь прожил человек, и, может быть, прочел он многое во взгляде Григория Шумова: похоже, что взгляд мальчишки не лгал.
Про себя Голотский иначе и не называл Виктора Аполлоновича, как словом «хлюст». История «хлюста» случайно была ему известна.
Отец Виктора Аполлоновича был богатый петербургский барин. Он долго и старательно проживал свое огромное состояние и в России и за границей — в Париже, в Ницце… Ему было не до сына.
Сыну тоже было не до него, но жить он хотел непременно, как отец: рано начал кутить, дальше пятого класса кадетского корпуса не пошел и к тридцати годам оказался в уездном городе, на должности надзирателя в реальном училище: никакого наследства от отца не осталось. Числилось за ним в прошлом какое-то некрасивое дело, но подробностей Лаврентий Лаврентьевич не знал и узнавать не хотел. Знал только, что Стрелецкий под судом не был, — значит, и толковать не о чем, тем более что родня у «хлюста» по-прежнему оставалась богатой, многочисленной и влиятельной: такая родня может повредить кому захочет, в том числе и инспектору реального училища.
Еще за одно не любил «хлюста» Лаврентий Лаврентьевич: сам Голотский был сыном захолустного дьячка, и чин статского советника дался ему нелегко; тунеядцев он не любил… Было время, когда — еще студентом — он и фамилию свою производил от слова «голота», то есть голытьба, беднота. Да мало ли что приходило ему в голову во времена студенчества! Давно было дело… А теперь вот стоит перед ним у крыльца училища мальчишка в мешковатом «на вырост» сшитом пальто, с красными — без перчаток — руками и смотрит доверчивыми, широко раскрытыми глазами.
Чем ответить ему на это доверие?
Ничем не может откликнуться на зов правдивого мальчишеского сердца Лаврентий Лаврентьевич Голотский.
Читать дальше
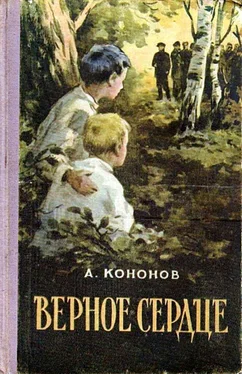
![Александр Кононов - Рассказы о Чапаеве. — Матрос Железняк. [Сборник]](/books/114628/aleksandr-kononov-rasskazy-o-chapaeve-matros-zhel-thumb.webp)