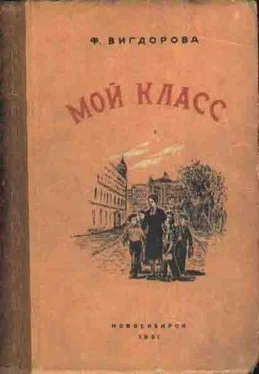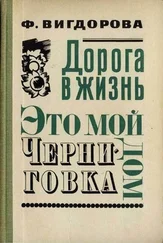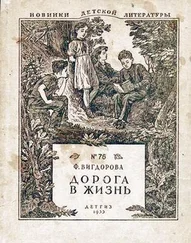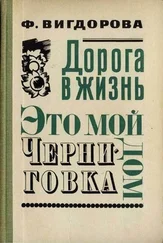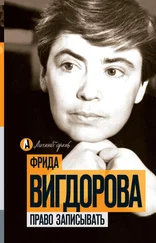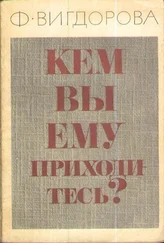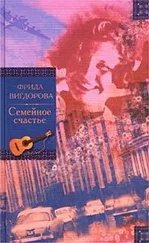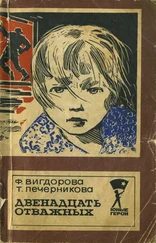И тотчас поднимается светловолосый, большелобый юноша в аккуратном синем костюме:
— Людмила Филипповна, дайте мне, пожалуйста, слово!
— Говори, Малеев!
И Малеев поднимается на кафедру. В прошлом году он окончил нашу школу. Теперь он студент.
— Я несогласен с мыслью докладчика, что подлинный героизм свойствен только людям с передовым мировоззрением. Вспомним Савонаролу — он был фанатик, он сжигал картины великих мастеров, обращал в прах прекрасные статуи. Но когда ему предложили доказать истинность своей идеи, он согласился даже на испытание огнём. Его не страшили ни костёр, ни виселица, он верил и ради своей веры был готов на всё. Что же, разве он не герой? Бесспорно, герой. Ведь и он, фанатик, дорожил жизнью, а всё-таки жертвовал ею во имя идеи!
Выступление Малеева вызывает целую бурю. Верно ли, что всякий, кто рискует собой, достоин называться героем?
Выступления становятся всё короче.
— Если я правильно понял тебя, ты считаешь, что даже личности, не имеющие никаких принципов, тоже могут совершить героический подвиг? Значит, и бандит, рискующий своей жизнью, по-твоему, тоже герой? — иронически спрашивает кто-то.
И тут на кафедру поднимается Лёва.
— Кого из нас способен вдохновить мрачный подвиг Савонаролы? — говорит он. — Никого. А люди, страстно защищавшие истину, навсегда останутся в нашем сознании олицетворением мужества, стойкости, героизма. Но ведь это всегда — передовые люди своей эпохи, они защищали передовые, прогрессивные идеи. Значит, мы снова возвращаемся к началу спора: героизм определяется правотой защищаемой идеи. Всё дело в том, за что борется человек. Героизма «вообще» нет. И только поступок, совершённый ради справедливого дела, мы можем назвать героическим.
— Позвольте мне реплику в споре! — сказала Людмила Филипповна, несмотря на то, что Лёва ещё не сошёл с кафедры. — Я хочу спросить: почему вы все говорите о героизме как о чём-то мгновенном, обязательно связанном с риском для жизни? Разве этим исчерпывается героизм? Например, Чернышевский. Разве его жизнь в глуши, в ссылке, в одиночестве, разве его непрерывный труд и гордая вера — не подвиг?
— Дайте мне слово, Людмила Филипповна, я как раз об этом и хочу сказать! — поднялся десятиклассник Орлов. — Мне кажется, плохо, что докладчик ничего не сказал о повседневном героизме. Я хотел бы привести такой пример: ленинградский завод «Электросила» не прерывал работы в самые трудные дни блокады. Люди работали, а руки у них примерзали к металлу, — и всё же они не просто работали, а перевыполняли норму. Разве это не героизм?
— Конечно, героизм! — взволнованно говорит голубоглазая, светловолосая девушка, моя соседка. — Но ведь ты опять приводишь в пример людей, которые работали в исключительных условиях. А если люди просто хорошо работают в обычной обстановке, это, по-моему, не героизм…
И опять вспыхивает жаркий спор. Слова девушки находят отклик, и многие снова и снова говорят о том, что подвиг, героизм связываются в их понимании с чем-то исключительным, необыкновенным, ярким.
— Я не буду разубеждать тех, кому кажется, что героическое непременно блистательно, — говорит тогда Анатолий Дмитриевич. — Я прочту вам письмо Наташи Ковшовой…
В руках у Анатолия Дмитриевича конверт-треугольник. Он развернул его и начал:
— «Здравствуй, моя милая Олюшка! Много времени прошло с момента нашей последней встречи. С тех пор очень многое изменилось, многое пришлось пережить. Я с 15 октября 1941 года в армии и с 11 февраля 1942 года на фронте. Пережила суровую зиму, участвовала во многих боях. 20 мая была ранена в обе руки и обе ноги. Но мне, как всегда, повезло: все ранения незначительные, только левая рука выше локтя была пробита насквозь. Здесь нерв, так что первое время пальцы на руке совсем не действовали. В госпиталь я не пошла, лечилась в роте выздоравливающих. Сейчас совсем здорова. Раны мои зажили, только шрамики болят, особенно в дождливую погоду. Ну, я на это не обращаю внимания. Хожу на «охоту». Мы с моей подружкой Машенькой за последнее время обучили немало молодых снайперов. С каждым днём наши ряды пополняются, счёт растёт… В общем, новостей много, всего не напишешь. Ну, а ты как живёшь, старый мой дружище?»
Анатолий Дмитриевич дочитал письмо до конца.
Было тихо.
Всем показалось, что Наташа сама приняла участие в споре, — и это было очень убедительное, веское слово.
И тогда все вдруг замечают, что Лёва ещё стоит на кафедре.
Читать дальше