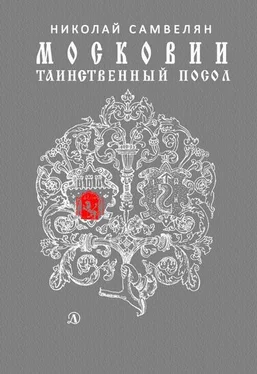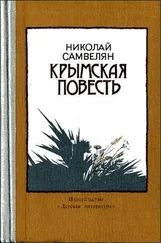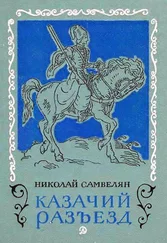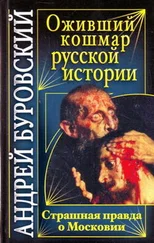Однажды по пути из Трансильвании в Краков в карпатском ущелье Поссевино чуть не свело с ума эхо. Ущелье это издавна называли «поющими горами». Голубые вблизи и синие вдали склоны казались мирными, задумчивыми, даже кроткими. И не верилось, что когда-то в этом ущелье громыхали битвы и к небесам улетали стоны и проклятья умирающих.
А бывали здесь воины персидского царя Дария и римляне, Батый и германские полки. Один раз в году, в предутреннюю синь, горы будто бы вспоминали последние слова каждого, кто погиб в ущелье. И тогда «поющее ущелье» плакало, рыдало, гневалось. Вновь слышны были голоса тех, кто давным-давно покинул эту землю — на страх еще живущим.
Поссевино решил проверить, действительно ли резонанс в ущелье так же хорош, как во дворце святого Петра в Риме.
— Да! — крикнул он.
«Нет!» — ответило ущелье.
— Да!
«Нет!»
Легат вытер ладонью внезапно вспотевший лоб и крикнул еще громче:
— Да! Да!
«Нет! Нет!» — возражали ему горы.
Поссевино покачнулся в седле. Заботливые спутники подхватили его.
— Почему горы кричат «нет»? — спросил он.
— Горы молчат.
— Как молчат? Я слышал — они мне отвечали.
Решили, что жаркое солнышко напекло легату голову, и тут же устроили привал в тени. В дальнейший путь тронулись лишь под вечер. Легат держался в седле прямо, но был тих и задумчив. Он не верил в чудеса. Возможно, он не верил ни во что на свете, но знал, что и блаженные и сумасшедшие существуют. И самое страшное — сойти с ума и не заметить этого…
Поссевино прошелся по комнате, снял нагар со свечей. В кресле сладко спал Челуховский. Иногда он вздрагивал и бормотал: «Ой-ой, мама… боже мой!» Интересно, что снилось ему? Неужто бесхитростное голубое детство, когда даже будущие злодеи бывают еще вовсе не злодеями, а верящими каждому слову и каждой ласке детьми.
Челуховский, со своим умением немедленно перейти от слов к делу, был нужен легату. Уж не отправить ли его в Москву? Но там, пожалуй, ему не поверят. Слишком много пестроты, неожиданного в его поведении. Да ведь и самому Поссевино пришлось с московитами нелегко. Царь слал ему со своего стола угощения, пытался одарить одеждами и лошадьми. Когда Поссевино, поблагодарив, сказал, что предпочитает жить скромно, не разрешая себе не только роскоши, но даже лишнего платья, и это не прихоть, а убеждение, позиция, от которой он никак не терпит — напротив, выигрывает, царь внимательно посмотрел легату в глаза, будто надеялся разглядеть за зрачками еще что-то (уж не душу ли?), и усмехнулся.
Эта усмешка показалась Поссевино опасной. Она не была ни наивной, ни чрезмерно открытой. И легат понял, что не следует задавать царю вопрос о печатнике Иване, причинах его отъезда из Москвы. Царь, судя по всему, тоже был дипломатом. Притом умелым. Если он не защитил печатника и по сути разрешил его изгнать, то теперь в этом ни за что не признается, если же, напротив, сам послал его в Вильно, Острог и Львов, то тем более ни словом о том не обмолвится.
Позднее Поссевино тешила мысль, что его поездки между Краковом, Вильно и Москвой, его спокойные вдумчивые речи могли решить больше, чем десяток кровопролитных сражений. Если бы он захотел, в руках русских осталось бы несколько крепостей в Ливонии. Если бы захотел!..
Но в той беседе взгляд царя был слишком тверд, а слова его, пожалуй, чрезмерно осторожны. Было ясно, что он не признает главенства над собой римского престола, не разрешит строить в Москве католические храмы, а потому Поссевино решил не помогать московитам. Более того, на девятнадцати заседаниях Ям-Запольских переговоров он сам достаточно повредил им и непрямыми умными речами свел на нет результаты их многих побед. Во всяком случае, убедил, что Баторий готов продолжать войну, тогда как на самом деле Польша уже выдохлась, а стойкость московских полков в последние месяцы вновь росла. Но Польша была католической, а Россия погрязла в схизме. И для автора «Христианского воина» было абсолютно ясно, чью сторону надо брать.
Во всем этом легат разбирался прекрасно и ошибок не делал. Но печатник Иван — кто он? Откуда? Зачем? А главное, какую цель он преследовал? Если бы удалось отгадать, кто стоял за его спиной! Какие люди, какие силы? Предположить, что он действовал на свой страх и риск? Такое казалось почти невероятным.
Правда, хоть печатные книги возникли не так давно, существовали фанатики, готовые на все, чтобы жить в них и для них. Недаром поэт Челио Кальканини завещал свою библиотеку родному городу Ферраре с условием, что его похоронят в главном читальном зале Феррарской библиотеки. И нашлись люди, которым завещание Кальканини показалось разумным. Его исполнили в том же 1541 году, когда поэт отбыл туда, куда всегда стремился в своем творчестве — в заоблачные дали, поближе к Олимпу.
Читать дальше