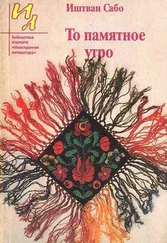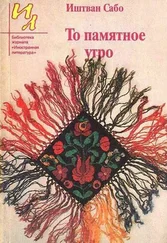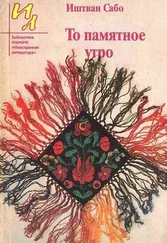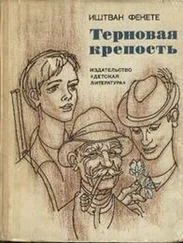— Слышишь, сынок? — и бабушка бледной, сухой рукой указала в темноту, где, мягко жалуясь, звенела мошкара, а в старой дубраве, на лугу Ценде, в камышах, у Кача и в Огородине под звездным покровом вечера уже перебросила через плечо суму вечно юная сердцем неугомонная странница Осень и ждет лишь появления луны, чтобы отправиться в путь.
Затем мы так же без слов направились в дом, молча отужинали, и той ночью я спал без сновидений, но с таким умиротворенным спокойствием, будто сознавал, что уготованного нам будущего изменить не дано, да и не стоит…
За завтраком отец ни с того ни с сего вдруг заявил:
— На чистописании можно поставить точку! Почерк у тебя исправился, так что если желаешь, пиши прописи, не желаешь — не пиши. Уж больно странный у тебя характер, и я не хочу, чтобы ты чувствовал себя подневольным.
Мамины глаза затуманились слезами радости, а я покраснел и тут же про себя решил: а вот и буду писать прописи! Почему бы и не писать, если никто не запрещает? Я и не заметил, что подпал под сладостное, но истинное рабство — рабство свободы, которое тем сильнее, чем его меньше.
Отныне стану писать не по одной, а по три страницы в день, — дал я себе обещание. Правда, по совести говоря, эта норма в течение недели была сведена опять к одной странице, но зато она удержалась вплоть до того дня, когда я смог «перейти» в третий класс.
Но этот переход тогда еще скрывался в необозримой дали трех недель, остававшихся до конца каникул.
Отец вместе со священником поехали в Игал на какое-то судебное разбирательство. Дядюшка Пишта натянул поводья, и коляска, унося отца, к величайшему моему удовольствию вылетела со двора.
Я же направился на чердак, как управляющий банком — в свой банк или владелец замка — в свою скалистую крепость. Однако по прибытии на место мною овладели совсем иные чувства, чем у банковского управляющего, которого в конечном счете может погубить разлагающая власть денег, или у владельца замка, которого неприятелю ничего не стоит выкурить из его собственного каменного гнезда. Чердак был неколебимо и безраздельно мой, как звездное небо, долина Кача или луг Ценде.
Коляска, наверное, уже подъезжала к околице, когда я чуть ли не священнодействуя открыл шкатулку; у меня было ощущение, будто кто-то ласковой рукою погладил меня по лицу, когда я вдохнул пьянящий — столетней выдержки — аромат шалфея и мяты.
Меня охватило необычайное спокойствие, и я мягко расслабился в этом чувстве. Я совершенно отчетливо сознавал, что не желаю читать письма тетки Луйзи, всегда раздражающие какой-то бессмысленной высокопарностью и стремлением внести раздор в жизнь близких. Мне хотелось совсем иных впечатлений, и я ухватил другую пачку писем; от пожелтевших листков, казалось, исходил запах человеческой старости.
Его благородию господину магистру
Габору Боттяну
Любезный друг мой, письмо твое касательно Йошки Шюле получил и на неделю к вам в Боронку его отпускаю, но токмо под твою ответственность. Хотя не думаю, чтобы он сам по доброй воле не вернулся обратно в срок. Должна же у человека совесть быть, ведь у меня тоже в субботу на будущей неделе сбор винограда начинается, и уж дня три продлится. Как я прослышал в суде, Йошка — ежели даже и не самолично того свинопаса порешил, — то сильно в этом деле замешан и с годик еще поживет на казенных харчах. Ну да и поделом ему.
Теперь только бы дожди не зарядили, грозди славно наливаются, в особенности белые сладкие сорта.
С пожеланием доброго здравия остаюсь
Гашпар Футо жандармский лейтенант Написано сие письмо месяца св. Михала 28-го дня.
Я глубоко вздохнул, потому что власть этих давних слов душила меня. С крошащегося листа бумаги обратившийся в тлен человек обращался к другому ушедшему в небытие — к моему прапрадеду, а через него — теперь и ко мне.
Нет сомнения, что Йошка Шюле после сбора винограда добровольно вернулся под арест, ведь у жандармского начальника тоже поспел виноград и без Йошкиной помощи было не обойтись. Но отлучка арестанта в Боронку обернулась и еще одним происшествием, героем которого оказался все тот же Йошка: на боронкайском винограднике судьба свела его с некоей девицей, и дело возымело последствия. Обо всем этом я узнал опять-таки из письма начальника стражи. Он пишет, что под поручительство прапрадеда моего Боттяна отпускает Йошку, чтобы священник обвенчал их с девицей, чтобы была у младенца настоящая, по отцу, фамилия. А вот предстать перед ее милостью провинившийся Йошка не решается, потому как боится ее пуще чем трех лейтенантов, вместе взятых… «Впрочем, Йошка этот парень очень порядочный, иным благородным не грех бы у него поучиться. Как только я сказал ему, что дело до беды дошло, он не помыслил, чтобы девку бросить или от младенца отказаться».
Читать дальше