В газетах написали об этом происшествии, а Валицки целую неделю не показывался людям на глаза.
— Какой из тебя Ирод,— говорил ему приятель Шот.— Ты даже ребенка напугать не можешь.
— Она узнала меня по скрежету зубовному...— ответил Валицки печальным голосом.
Пан Ольшовски просил у него прощения и утешал.
— Даже я вас не узнал,— говорил он.— Но этот ребенок так вас любит, что узнал бы вас, если бы вы даже переоделись дьяволом. Вы прекрасный актер, а Бася — несносная девчонка.
— Вчера несколько ребятишек чуть не упали в обморок в зале! — с гордостью сказал Валицки.
Бася, которой пан Ольшовски объяснил, что нельзя царя Ирода дергать за бороду, покрыла лицо актера поцелуями, причем ей смутно казалось, что она целует одежную щетку. Губитель невинных душ просветлел и обещал, что отныне будет добрым и перестанет пугать детишек.
Бабушка Таньска так смеялась над этим скандалом, что кухарке пришлось ее крепко держать, чтобы она не лопнула. Придя, однако, в себя, она дала пану Ольшовскому несколько спасительных советов.
— Для чего вы ее повели в театр? Что за идея? Я была в театре в первый раз, когда достигла совершеннолетия, и то упала в обморок, когда на сцене какой-то дикий негр задушил свою бедную жену.
— Отелло!—засмеялся пан Ольшовски.
— А, так вы знаете эту пьесу? — удивилась бабушка, глядя на него с уважением.— Я думала, что все уже забыли о ней, ведь это было пятьдесят лет назад. Если бы ее теперь играли, этот Валицки не только задушил бы невинную женщину, но еще для верности перерезал бы ей горло перочинным ножиком. Я пригласила его в воскресенье на обед, но с условием, чтобы он пришел с приклеенной бородой. А вы знаете, что мне этот Ирод ответил? Говорит: «Это лишнее. У вас и без того можно часто найти волос в супе». Такой негодник! Приходите тоже, будет индюшка. Родители Стасе прислали... Наверное, подохла, потому что сейчас на них пришла какая-то холера, но кто не знает, тот съест.
Но пан Ольшовски, однако, не поел индюшки, а Валицки не прицепил себе искусственную бороду, потому что случилось несчастье.
В пятницу вечером в квартире пани Таньской зазвонил телефон.
— Бася заболела! — сдавленным голосом сказал пан Ольшовски. — Пусть панна Станислава... .
— Уже едем! — воскликнула бабушка, не дав ему закончить.
Пан Ольшовски был в ужасе и с беспокойством смотрел на врача, склонившегося над Басей.
— Воспаление легких,— шепнул врач спустя минуту.
— О, Боже! — простонала панна Станислава. / Бабка насупилась. Посмотрела на врача и спросила грозно, хотя и шепотом:
— А вы хороший врач?
Тот посмотрел на нее с большим удивлением.
— Мне кажется, уважаемая пани...
— Потому что если вы не справитесь, я приглашу еще двоих, троих...
— Думаю, что меня одного достаточно, если, однако, уважаемая пани...
— Оставьте уж эту «уважаемую пани»... Не сердитесь. Я говорю глупости со страху, ведь мне семьдесят лет. Это опасно?
— Не скрою...
Пани Таньска пришла в отчаяние и лишилась сил.
— Пан доктор...— проговорила она бесцветным, усталым шепотом.— Спасите ребенка. Это сирота. И единственное наше утешение. Бог вам заплатит... Ну и я тоже! Спасите ее!
— Я сделаю все, что в человеческих силах,— ответил взволнованный врач.— Бедный ребенок!
Он с сочувствием посмотрел на перепуганные лица и ободряюще улыбнулся каждому из троих.
— Я в вашем распоряжении,— сказал он.— Приду в любое время дня й ночи.
Потом он провел долгое совещание с бабкой в соседней комнате.
Ребенка невозможно было перенести к пани Таньской, и дом Ольшовского превратился в госпиталь, во главе которого встала она. После короткого мгновения слабости к ней вернулась ее трезвая энергия. Юлий Цезарь в наистрашнейшей битве не командовал гениальнее, чем она. Семь потов сходило с Михася, а панна Станислава и Ольшовски напоминали негров наичернейшего рабовладельческого периода. Деловитая старушка боролась за жизнь ребенка с бешеной страстью. Если бы она могла своими глазами увидеть приближающуюся смерть, она бы пересчитала той все кости. Несколько ночей она не сомкнула глаз, прислушиваясь к каждому шелесту и каждому самому тихому вздоху.
— Вы тут не нужны! — сказала она панне Стасе и Ольшовскому.
Они тоже все время бодрствовали. У панны Стаей под глазами были темные круги от бессонницы, а Ольшовски, молчаливый и мрачный, не знал, куда себя девать. Теперь он понял, как сильно полюбил этого ребенка. Он не мог ни читать, ни писать. Смотрел нежным взглядом на беззащитного птенца, над которым кружила смерть, остроглазый ястреб. Иногда он на часок выскакивал, чтобы забежать к Балицкому, Шоту и своим приятелям. Бабушке он целовал руки и молча прижимал их к своей груди.
Читать дальше
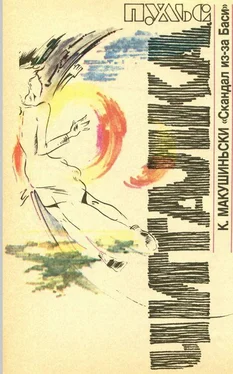





![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
