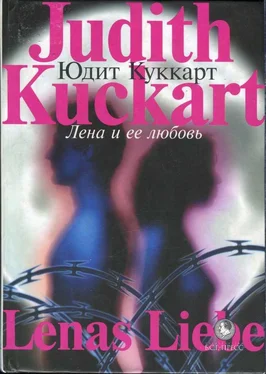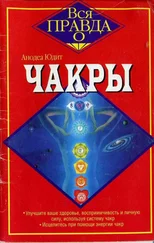— А ты что?
— Говорю же, мне было десять. Пойдем-ка дальше, — предложил Дальман, оставаясь на месте.
— Отец этого Робби, — продолжал он, — был лейтенантом полиции. Вот откуда взялись темный плащ с белым шарфом. Поздней осенью сорок четвертого его родители едва ли не первыми перевозку мебели заказали.
— А твои?
— Мой отец вообще-то был сельский жандарм, и словил трех-четырех польских простофиль, мелких воришек. Но зато у него были большие собаки. Вот с собаками он в лагере и работал.
— А ты?
— В жизни я не гордился собой больше, чем в те времена, когда был здесь немецким ребенком, — тихо вымолвил Дальман. — Знал, что ничего лучше в моей жизни не будет.
Движение на мосту на несколько секунд прекратилось, хотя поблизости не было светофора. Тишина нежданно опустилась на берег Солы. Тишина, которая прислушивалась. Мимо порхнула бабочка. Не какая-нибудь красивая, а белая и грязноватая, вроде моли.
— Каникулы в усадьбе Липовских, — добавил Дальман. — Летом.
— Где это?
— Там, где Здуньска Воля.
— Где-где?
— Ай, ну у Лодзи! — воскликнул Дальман и хлопнул себя по ляжке. И взялся рассказывать. Дальманов дядя был бургомистром Здуньской Воли. С сорок второго по сорок четвертый. Семья жила в усадьбе Липовских, на краю городишка, в конце аллеи, таившей загадку. В темно-зеленой тени подъездной дороги любой гость от любопытства вытягивал шею. А потом оказывался перед усадьбой. С фасада — скромный дом. Но задний фасад его открывался подковой в парк, нет, превращался в фасад дворца. Там даже у детишек были собственные слуги. И у кузины Дальмана — тоже. Красивая она девочка, но застенчивая очень. За стаканом сока, рассказывал Дальман, сама ходила на кухню. Лето в усадьбе всегда было жарким и долгим, как это бывает только в детстве, и трава такая высокая, что до сих пор смыкается в памяти у них над головами. А локоны у кузины золотые, продолжал он. Иногда им разрешались конные прогулки, иногда даже далеко, до красной фабрики, только она не фабрика больше. И так тихо там, на пыльной площадке под палящим солнцем, так тихо, наверное, потому, что было когда-то очень громко. Тишина, наверное, тому причиной, что они, — придерживая поводья и с седла не спрыгнув, — только за руки молча держались, и ведь это только одно мгновенье из всех прошлых мгновений. Миг, достигавший глубины сердца на пыльной фабричной площадке. А когда они возвращались, то коней пускали шагом, и по-прежнему держались за руки, зажмурив глаза.
— Вот так, — Дальман снял очки и закрыл глаза, вспоминая. — Из-за комарья.
Священник решил уйти с берега, вернуться на мост, на дорожку для пешеходов. Полез вверх, помогая себе обеими руками. Потом протянул Дальману правую руку, потому что тот скользил на кожаных подметках. На мгновение увидел со стороны и себя, и его. Смешно они выглядят? Медленно шли к городу, шли хотя и рядом, но между ними хватило бы места третьему. По мосту. Тень решеток, тень перил лежала на асфальте. Башня костела на другом берегу реки Солы острием упиралась в предвечернее небо. Там-то и пропал силуэт Лены, возле виллы Хаберфельд, напротив храма.
— Но однажды… — заговорил Дальман. И его шаги стали мельче, а потом он остановился, как всегда, когда пытался сказать о важном.
— Так что было однажды? — потянул его за рукав священник. И подумал: «Мы действительно забавная пара».
— А то, что однажды нас со всем ее классом повели на пепелище, — откликнулся Дальман. — Пепелище в центре города, я точно помню, — и опять остановился. — Это было в то самое лето, — продолжал он. — Лето перед тем, как пришла Красная Армия и, наверно, кто-то из товарищей в детской у моей кузины нашел тоненькую солдатскую Библию, а заодно и ее собственные стихи. Мы все уже давно уехали. Хочешь знать, что за стихи?
— Да, да, только идем дальше.
— Любовные стихи одному барану по имени Карл, — не унимался Дальман, немного отставая от священника. — Кузина держала его при себе, как собачку. Тот провожал ее по польской дороге через польский лес в немецкую школу. Ждал на улице, на заборе, и не пил, не ел, пока она не выйдет и не отдаст ему остатки школьного завтрака. Как влюбленная парочка.
— Так что же с пепелищем?
Дальман опять остановился, но молчал. Проехал синий автобус, подскочив на стыке бетона с булыжником мостовой.
— В самом центре города. Пепелище. Ведут нас туда. Погода хорошая и теплая, первый день каникул. Да, я это точно помню. Все помню. Точно. На пепелище, — продолжал Дальман, медленно шагнув вперед, — нас построили парами и повели. Мы расселись наверху на трибунах, смотрим вниз. Там на крюках висели люди. Так вешают картины. Дома мы про это рассказали за столом, и я помню, как сидели рядом против света мой отец и мой дядя — широкие головы, короткие шеи. Мрачные, будто два надгробия, прижатые друг к другу.
Читать дальше