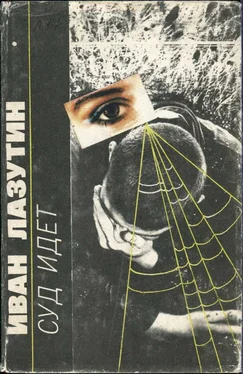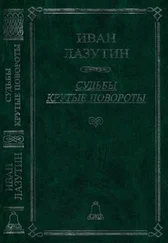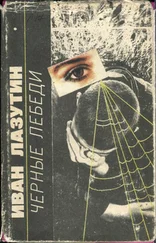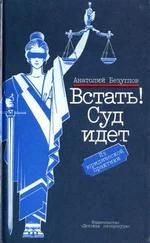Богданов ничего не ответил, он только что-то записал в календаре.
Шадрин вышел. Из головы его не выходило: Ольга… Таганская тюрьма. Ее сегодня арестуют, ее повезут туда на «черном вороне»… Он видел ужас в ее глазах, видел перекошенное горем лицо матери… Теперь он до конца понимал, как тяжело профессору Батурлинову. Писал объяснительную записку, а сам думал: «Что делать? Как им помочь? Как доказать, что их оговорили?..»
Когда передал дело Анурова Артюхину, тот в первую минуту никак не мог понять, что случилось, и только глупо моргал своими добрыми глазами.
Вернувшись в свой кабинет, Дмитрий снова почувствовал неприятное кружение в голове и слабость во всем теле. Откуда все это? Неужели по пятам ходит болезнь? А потом эта тошнота и пот… Такой пот, будто он целый час просидел в парной и вышел прохладиться в предбанник. Мокрая рубашка прилипала к лопаткам, по спине, по желобку над позвоночником ощутимо стекала струйка. Она холодила и щекотала. Во рту сохло…
Богданов внимательно прочитал объяснительную записку Шадрина и поднял на него свои стальные, с холодной голубинкой глаза.
— Что с вами? Вы мокрый, как мышь.
— Я болен.
— Ступайте к врачу. В таком состоянии работать нельзя.
Проходя по заиндевевшему скверику, Дмитрий остановился. На лавочке, ссутулившись, сидел профессор Батурлинов. Он глубоко, почти до самых глаз, надвинул на голову боярку и, не обращая ни на кого внимания, вслух разговаривал сам с собой. И что-то чертил тростью на земле.
Дмитрий прошел мимо. Ему было страшно встречаться взглядом с профессором. Ежась от озноба, который пронизывал все тело, он направился к трамваю. Думал об одном: «Только бы не упасть посреди дороги… Только бы добраться до койки…»
Сырой мартовский ветер хлестал о забор старой отклеившейся афишей. На голых тополях с криком гнездились грачи. В тихом глухом дворике, где не было ветра, расхаживали сизые голуби. Все радовалось грядущей весне: облитые солнцем каменные дома, вездесущие воробьи, купающиеся в лужах, розовощекие ребятишки, возвращающиеся шумной ватагой из школы, счастливо улыбающаяся молоденькая почтальонша, которая попалась навстречу Струмилину. Можно было подумать, что в сумке ее, в письмах, спрессовано столько человеческой радости, улыбок и светлых надежд, что она, как на крыльях, торопилась доставить людям эти улыбки, эти радости и надежды…
Только на душе у Струмилина было по-осеннему пасмурно, неуютно. Он припоминал только что состоявшийся разговор с заведующим ординатурой доцентом Самариным. Струмилин вошел к нему в кабинет, когда тот собирался уходить.
— Вы ко мне?
— Да, к вам, — ответил Струмилин и положил перед Самариным рекомендацию профессора Талызина.
Струмилин слышал от других, что Самарин формалист и плохой врач. Но он не думал, что разговор этот обернется так обидно для него и ворохнет в памяти дни концлагеря. Он и сейчас отчетливо видел перед собою гладко выбритые щеки Самарина, его заваленный бумагами стол и холодный кивок головой.
Профессор Талызин, руководивший в течение последних трех лет работой Струмилина, рекомендовал дирекции института обратить внимание на успехи хирурга и зачислить его в ординатуру.
— Прекрасно, прекрасно, — нараспев говорил Самарин, пробегая глазами рекомендацию. — Анкету заполнили?
Струмилин положил на стол документы.
Самарин долго и внимательно читал анкету и биографию Струмилина, потом поднял на него усталый взгляд и, точно пытаясь взвесить, как подействует на собеседника его откровение, спросил:
— Будем говорить начистоту?
— Разумеется, — ответил Струмилин, озадаченный таким вопросом.
— Так вот, товарищ Струмилин, заберите свои документы, а рекомендацию уважаемого профессора Талызина оставьте себе на память. Пока забудьте, что на свете существует ординатура. Я говорю — пока!
Струмилин старался понять, куда клонит Самарин.
— Почему?
— С вашей биографией ординатура пока исключается. Только прошу вас об одном: наш разговор — не для протокола. Я мог бы принять от вас документы, проманежить вас несколько месяцев, заставить вас попотеть над экзаменами, и в результате все свелось бы к тому, что вы не прошли по конкурсу. Пожалейте себя и свое здоровье.
— Вы имеете в виду мой плен? — с затаенной обидой спросил Струмилин.
— Да, я имею в виду ваш плен. — Самарин вздохнул, достал из портсигара папиросу, долго, очень долго разминал ее и наконец прикурил. — Время… Время не на вас работает, товарищ Струмилин. Ваше счастье, что вы еще имеете место в хорошей клинике. И не где-нибудь в провинции, а в Москве.
Читать дальше