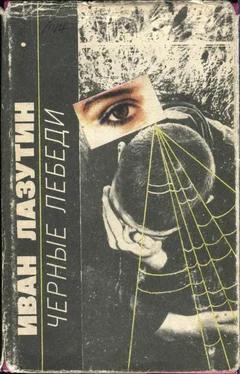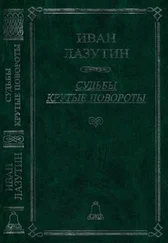Шадрин поставил Мулярову тройку и, передавая ему дневник, сказал:
— Через две недели можете исправить оценку. Спрашивать буду после уроков, по всему пройденному материалу.
— Спасибо, — стыдливо буркнул Муляров и, пряча взгляд в пол, направился на свое место.
Вторую половину урока Шадрин объяснял новый материал. Он подробно анализировал следующий раздел логики. Дмитрий видел, что класс затаенно слушает. Кое-кто конспектировал. Делали пометки в своих записных книжках и члены комиссии.
В оставшееся время Шадрин уложился с трудом. Когда раздался звонок, он закрыл журнал и дал задание к следующему уроку.
Перемена была короткой. В кабинете директора Шадрин узнал, что урок его всем членам комиссии понравился, что оценки его полностью совпали с оценками председателя комиссии доцентом Николаевой.
Когда Шадрин уже собрался уходить на урок в другой десятый класс, его задержала доцент Николаева:
— Хотите вы этого или не хотите, Дмитрий Георгиевич, но ваш сегодняшний открытый урок мы будем обсуждать на педагогическом совете. Вот там-то у нас и будет подробный разбор и настоящий разговор. А сейчас — большое вам спасибо. Я получила истинное удовольствие. Думаю, что мы еще встретимся, и не только на педсовете, — председатель пожала руку Дмитрию.
…Через неделю у Шадрина был показательный урок в девятом классе, на котором присутствовали преподаватели логики и психологии из соседних школ. А через месяц на расширенном педагогическом совете, где кроме членов комиссии, были представители из роно и гороно, вынесли решение, что методика ведения уроков Шадриным является образцовой в районе и что высокая успеваемость по всем девяти старшим классам, в которых он преподает, есть результат большого и добросовестного труда.
На этом же совете с подробным анализом работы Шадрина выступила доцент педагогическое института Николаева, которая в качестве председателя комиссии дважды была на его уроках.
А через месяц приказом заведующего гороно Шадрин был назначен старшим методистом московских школ по логике и психологии.
«Главное — обдумывать каждый шаг, взвешивать каждое слово. И всегда помнить, что жизнь — это непрерывный спектакль, в котором одни играют главные роли, а другие от колыбели и до гробовой крышки топчутся в эпизодах…» Так размышлял Растиславский, сидя в кабинете загородного летнего ресторана. Потягивая через соломинку коктейль, он время от времени поглядывал на часы. «Придет или не придет?» — думал он. И тут же загадал: «Если достану соломинкой льдинку из фужера — значит придет».
Долго возился с кусочком льдышки, но достал. Даже облегченно вздохнул. Окинув взглядом густые виноградные лозы, цепко обвивающие деревянные решетчатые стенки кабины, он удовлетворенно подумал: «Как в зеленом шатре. Ей наверняка здесь понравится. В Сочи мы однажды ужинали в таком зеленом ресторане. Там даже потолок был из таких же виноградных лоз и листьев».
Растиславский начинал нервничать, все чаще смотрел на часы. Уже двадцать минут девятого, а Леры нет. В Москве Растиславский с ней еще не виделся, а поэтому не был уверен: будет ли ей здесь, в Москве, так же интересно с ним, как на юге. Там колдовало море, там была праздная курортная жизнь. Безденежье заставляло Леру и ее подругу Жанну ходить за ним по пятам. А здесь… Здесь они были под родительским крылом. В институте их окружали молодые люди, двадцатилетние ровесники. А ему уже давно шел четвертый десяток. В темных висках проблескивала седина. Да и борода, которую он так старательно и упорно отращивал, разве она молодит?
За густолистым заслоном дикого винограда, вьющегося по деревянной решетчатой перегородке, в соседней кабине громко разговаривали два уже изрядно подвыпивших и не в меру разоткровенничавшихся человека. Растиславский несколько раз оглядывался на их голоса. Сквозь просветы зеленой стены он видел лицо одного из них, того, что сидел в профиль. Ему было не больше двадцати шести-двадцати восьми лет. Его большая голова с тяжелой квадратной челюстью склонилась над столом так низко, что Растиславскому казалось: вот-вот она коснется подбородком тарелки. Мужчина был уже изрядно пьян, и он пытался доказать своему собеседнику, что в Воркуте заработки больше, чем на Колыме, что с продуктами там куда проще и что «спиртяга» в Воркуте никогда не переводится. Время от времени до слуха Растиславского доносились словечки жаргона. Два голоса — один басовито-сиплый, другой тонкий, срывающийся — слились в пьяном диалоге, который можно услышать только в третьеразрядном загородном ресторане.
Читать дальше