Гнедуха шла боком, угиная морду от палящего, колючего ветра, шла, вся натужившись и даже нет-нет приседая на задние ноги, со всей моченьки, даже жилы вздувались на крупе, упираясь ногами, когда сани тонули в тяжелом заносе, бороздили и вспахивал его. Отец спрыгнул с воза, пошел рядом с кобылой, заслонив лицо плечом и рукой в шерстяной варьге, поверх которой была натянута брезентовая верхонка. Трудно было понять, далеко или близко деревня, — снежная мгла застилала белый свет, и, хотя пора бы, все никак не просматривалась степная береза-бобылка, отчего отец, выхаркнув лютую матюжку, отчаянно смекнул, что давно уже сбился с дороги, занесенной снегом и гладко зализанной ветром. Отец долго озирался, через мучительный прищур оглядывая метельную степь, гадая, в какой стороне жилуха, и, ничего не высмотрев, тронулся наобум лазаря, прямо по целику, положась на авось и Гнедуху, — может, учует жилье.
А вьюга не думала стихать, но с каждым звеняще-тугим порывом росла и росла; а дико свистящий, воющий хоровод все крепче и туже, с ликующим злом сжимал заблудивших, одиноких людей…
…Так вот, когда Иван наставлял свою дочь на ум, от тихого назидания переходя на ор, то после, когда было стыдно за слепое раздражение, поминалось ему свое детство, поминался и февральский день, лишь по великой милости не ставший последним для отца и сына. Вначале день мерк в обиде на отца, как в тогдашней метельной мгле, словно отец был повинен в том, что и оттепель вышла обманчивой, и страху натерпелся по самое горло, и добела прихватило морозом щеки, — мать едва оттерла, и весь месяц мазала гусиным салом, пока не сошли коросты. Обидно было… Но тут же обида рассеивалась, словно нежеланные тучи от ветра-верховика, — нет, все же были и ласковая сретенская оттепель, и степь-белорыбица, сверкающая на солнце мелкой чешуей; были печально-уютная, хрипловатая старина отца про ямщика, умирающего в степи, и Гнедуха, бегущая нехлесткой рысцой в лад песне; кружились березы, нежно задымленные сизоватым, узорчатым инеем, и был он, парнишка, оторопевший от сверкающего степного простора, от певучей тиши березового перелеска, и было ему жалко отца и всех на белом свете.
Но когда шли Ивановы наставления дочери, о своем детстве он вроде ни сном ни духом не ведал, словно и не случилось в его жизни детства.
Наставления, поучения разгорались вечером, когда вся семья собиралась за ужином, когда Оксана, хмурая, приходила из школы и с порога винилась: мол, посеяла варежки — уже третьи с начала осени!., а деньги — целый рубль!.. — выданные на тетради и карандаши, выманили подружки и купили дороженных конфет «Ласточка». Даже не выманили, а она сама, богачка, одарила всех шоколадными «Ласточками».
И так изо дня в день: Оксана что-то теряла, забывала от врожденной, сонной и протяжной задумчивости или, наоборот, от неуемной, захлебистой говорливости. Не столь было жалко Ивану рубля, — не было денег и это не деньги, — сколь жалко дочь, и даже страшновато за нее: а вдруг такой простушкой вырастет, и любой встречный-поперечный, кому не лень, будет ее на каждом шагу обманывать?.. А девушкой станет, тогда как?.. Ловкачей пруд пруди, мигом оморочат, а потом беды не расхлебаешь. Им такую простушку заманить да вокруг пальца обвести — раз плюнуть.
Чужие грехи пред очами, свои за плечами?.. Нет, Ивану с об-щигающим душу стыдом поминались и свои грехи; мало того, было мучительно стыдно от неуверенности, что устоял бы и впредь пред соблазном, коль такой подвернулся бы. Помянулись забытые девчушки, вылетевшие из-под маминого крыла на веселый, лихой простор, да впопыхах, вгорячах тут же угодившие в проворные, хваткие руки. Сколько их, непутевых, надломилось нежными ветками, чтобы уж больше не выправиться, не нарядиться майским листом… Рассуждения Ивановы, исходящие из грешного темнознания, заскользили вниз, в будущую непутную жизнь дочери словно под угор, размытый холодными осенними дождями.
Он не мог постигнуть вялой, растерянной сутью, чему Оксану учить: если добру и простодушию, — промается весь свой девий и бабий век, обманывать будут, насмехаться?., но не хотелось подучать и нелюби к людям, как и житейской ловкости, — противилась суть. От такой растерянности набухало в душе против дочери раздражение, круто замешанной на жалости, тоске и тягостном ощущении жизненной неуютности и непрочности.
Иван Краснобаев, после учебы не зацепившись в Иркутске, вместе с Ириной, женой, и малым чадом вернулся в степное село, где на берегу заросшего травой и обмелевшего озера отыграло утренними зорьками его рыбацкое детство. Пристроились в деревенскую газету, сочиняли про пастухов и доярок, чабанов и рыбаков, костерили на все лопатки деревенских пьянчуг и лодырей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
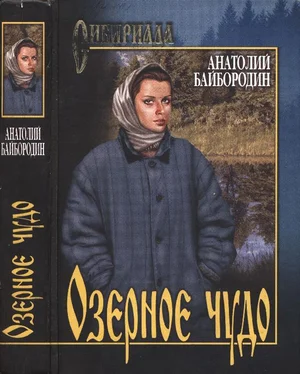
![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)










