Но прежде чем отпустить Фамарь, он пошел к Господу и спросил у Него совета. Но Господь ответил так, как обычно:
Всякое обещание царя дано пред Богом.
Обо всем, что потом случилось, Вирсавия узнала от Шевании; голос его звучал тихо и опасливо, он был в смущении, хотя она ведь все это предвидела, иные слова он старался как бы скрыть в покашливаниях и запинках, избегал и всех описательных мановений, какими обыкновенно сопровождал свою речь.
Фамарь замесила тесто у постели Амнона, вся комната наполнилась ароматом зерна и закваски, пальцы у девушки были нежные и проворные, однако ж и сильные, казалось, в особенности эти непорочные и вместе на удивление искушенные пальцы привлекали внимание больного, они сгибались и выпрямлялись в естественных, равномерных движениях; когда она погружала их в тесто, слышалось легкое пыхтение, а когда вытаскивала, тесто отзывалось шипящим чмоканьем, которое шло не иначе как от сочности его и влажности. Она дышала в ритме своих движений, и щеки ее рдели будто гранатовые яблоки.
Ты понимаешь?
Да, понимаю. Продолжай!
И вот слепила она лепешку, круглую лепешку с глубокой ямкой посредине, выложила ее на сковороду и пошла к печи, что позади Амнонова дома, Амнон к этому времени уже так взволновался, что, когда она покинула его, впал в беспамятство. Ионадав кропил ему лицо алоем, а я растирал елеем грудь его, но очнулся он, лишь когда Фамарь возвратилась с испеченной лепешкою. И она спросила:
Преломить ли мне ее? Голос у нее был тихий и хриплый, она все еще тяжело дышала.
Да. Преломи, сказал Амнон.
И она взяла лепешку из сковороды, и преломила ее, и спросила: положить ли ее пред тобою?
Нет, сказал Амнон, подай мне ее из твоих рук.
Потом он велел нам оставить их наедине, его и сестру его Фамарь, и мы вышли от него, Ионадав и я, мы вправду тихонько удалились, ибо мы тоже чувствовали, что и нас вот-вот одолеет эта постыдная горячка; и то, что я могу сообщить тебе в продолжение, а пожалуй, и в завершение этой истории, почти необъяснимо.
Да, я понимаю. Я знаю тебя, Шевания. Продолжай!
Она подошла к его постели, в правой руке она держала преломленную лепешку, а левой стянула на груди одежду свою, и лепешку она протягивала так, как протягивают пищу плененному хищнику, лепешка благоухала, как хлебная нива под полуденным солнцем.
Подойди ближе, сказал он. Подойди и сядь на мою постель.
И она подошла и села, но осторожно, на самый краешек, будто готова была в любое мгновение снова встать, и спросила: правда ли, что ты умрешь?
Теперь уже не умру, теперь ты со мною.
Но это была правда?
Да. Я бы умер.
Отчего же теперь ты не умрешь?
Ты пришла ко мне с хлебом жизни.
Но ты не ешь хлеб.
Иди, ложись со мною! И мы вместе будем есть хлеб.
И он притянул ее к себе, так что она поневоле легла рядом, и на лицо его вновь вернулись краски, и руки вновь обрели силу, она лежала на спине, и, будто щит, держала пред собою преломленную лепешку, и спросила: ты воспитан священниками, и ведом тебе закон Господень, скажи мне: разве Господь не запретил это?
Она бросила в него имя Господне, будто окованное медью копье.
Нет, закон Господень не говорит об этом ни слова.
Истинная ли это правда?
Господь мне свидетелем, сестра моя: ни слова!
Я еще девица.
Да. Ты сохранена ради меня. И я избрал тебя. Прежде бываешь сохранен, а потом избран.
Девство сообщало моей жизни ее ценность. Если отнимется у меня девство, я потеряю особенное мое свойство.
Для меня ты всегда останешься непорочной сестрою!
Отец мой отринет меня.
Все отцы отрекаются от своих дочерей, когда те лишаются девства.
Я хочу остаться чиста.
Это происходит быстро. Ты не успеешь сделаться нечиста.
Даже Господь не прострет надо мною руку Свою.
Я буду защищать и охранять тебя всю жизнь. Ты будешь моею царицей. Быть мне навеки проклятым, если не останусь я защитой тебе и крепостью до дней глубокой старости!
И алчными своими пальцами он совлек с нее одежды, и обнажил ее срам, и притянул ее к себе, и взял ее, совершил он это как в лихорадке, судорожными, неловкими движениями, она плакала и жаловалась, но он не слушал ее, все произошло так быстро, что он вряд ли успел осознать звуки, которые она издавала; можешь ли ты, царица, сказать мне, каково в сущности различие меж любовью и поруганием?
Нет грани меж любовью и поруганием.
Потом он вскочил с постели, вся бледность его исчезла, он был как молодой олень, нагой и блестящий, и он тотчас принялся есть лепешку, которую Фамарь уронила на пол, Господь поистине сотворил с ним чудо, и он сказал: ты сука, Фамарь! Такая же, как и все остальные!
Читать дальше
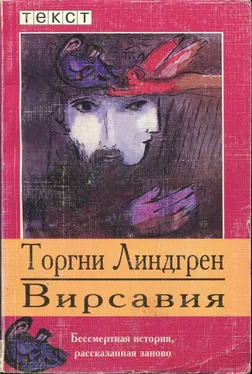




![Астрид Линдгрен - Линдгрен А. Собрание сочинений - В 6 т. Т. 2 - Суперсыщик Калле Блумквист [ Суперсыщик Калле Блумквист; Суперсыщик Калле Блумквист рискует жизнью; Калле Блумквист и Расмус; Расмус, Понтус и Глупыш]](/books/89102/astrid-lindgren-lindgren-a-sobranie-sochinenij-v-thumb.webp)




