— На этот раз, Нина, я не в силах ничему помешать. Я могу только предостеречь.
— Как грустно, Руперт. Смотрите, сколько бед мы принесли друг другу.
— Да, — отозвался он. — Но теперь уже ничего не изменишь.
— Чего они хотят? — спросила она с возмущением. — Выведать у меня тайны, которых я не знаю?
Он беспомощно улыбнулся.
— Они хотят узнать мою тайну, а ее-то, пожалуй, вы одна и знаете.
— Что? Вы серьезно?
— Да нет, шучу, — сказал он, надкусывая крекер. — Но они думают, что я скрываю какую-то страшную тайну. И что вы знаете ее… А вашим вы что-нибудь говорили? — спросил он, оглядываясь.
— Сказала, что ко мне пристают какие-то люди из-за моей дружбы с вами. И как это происходит. Наши хотят избежать скандала, и поэтому я живу здесь. Им было бы неприятно попасться на провокацию.
— Да, но понимают ли они, что, когда вы будете садиться в самолет, вас могут задержать?
— Кто посмеет меня тронуть? — возмутилась она. — Этого не может быть!
Руперт гадал, что в ней говорит: душевная сила или уверенность советского гражданина в мощи своего государства, способного вызволить его из любого трудного положения? Но он понимал, что для него она потеряна.
— И все-таки они попытаются вас не выпустить, — настаивал он.
— Но почему? Я ведь ничего дурного не сделала, Руперт. Какое они имеют право?
Он вспомнил розовую папку адмирала.
— Тем не менее они считают, что вы представляете для них опасность, а я являюсь вашей добровольной жертвой.
— Мне все равно, пусть делают, что хотят, — упрямо твердила она. — Я уеду, как собиралась. Они не смогут меня задержать.
Ему хотелось бы смотреть на вещи так же просто, но он понимал, что это невозможно. В Нине жила такая убежденность в правоте своих жизненных целей, что он мог только завидовать ей.
Кто-то ее позвал, и она сказала, что ей пора. Прощаясь, он предупредил Нину, что, может быть, ему не удастся повидать ее перед отъездом.
Тут стена, которой она себя окружила, сразу рухнула.
— Руперт, прошу вас…
Он вспомнил, как на Белорусском вокзале, когда отходил поезд, она прятала от него лицо, чтобы скрыть свои чувства. Теперь была его очередь скрывать от нее то, что у него на сердце. Грозившая им опасность вновь пробудила их тайное влечение друг к другу, и он понял, как любит эту простую и чистую душу, как преклоняется перед ее ясностью и прямотой.
Не знаю, как они простились, — этого Руперт мне не рассказал. Не знаю, говорили ли они о горечи утраты, о своем раскаянии, о той боли, которую невольно причинили друг другу. Думаю, что о себе они не сказали ни слова, потому что оба понимали, как непреодолимо разделяют их два враждебных мира, мира, где царят такие разные законы. Их привязанность была слишком безнадежной, поэтому они не хотели признаться в ней даже самим себе.
— Плохо дело, Джек, — горестно сказал мне Руперт. — Она не понимает, что ей грозит.
Он знал, что только от него зависит, сможет ли она вернуться на родину. В этом он был убежден.
█
И тем не менее Руперт, возможно, уступил бы Лиллу, если бы не еще одно обстоятельство, которое тоже сыграло свою роль, повлияло на его решение и заставило выбрать честный, прямой путь.
Через несколько дней, часов в пять, когда служащие толпой покидали здание фирмы, а по лестнице стучали каблучки-гвоздики и в лифтах хихикали девушки, с любопытством оглядываясь на Руперта, нас вызвал к себе дядя Рандольф. Мы направились по длинным коридорам в кабинет к старику, который ждал нас, всем своим видом напоминая, по обыкновению, морского волка.
У Рандольфа был сильный насморк, и в закупоренной комнате царила невыносимая духота.
Старик был совсем болен и беспрерывно сморкался в бумажные салфетки, которые он скатывал в комок и кидал возле себя на пол.
— Когда Фредди объявил о своей грязной махинации, я думал, у тебя хватит элементарной вежливости зайти и поговорить со мной, — обиженно обратился он к Руперту, как только мы вошли. — Но хорошие манеры теперь не в чести в нашей семье.
— Я ведь знал, как вы отнесетесь к проекту Фредди, — уклончиво ответил Руперт, — какой смысл было мне вам о нем рассказывать?
— Разумеется, я своей точки зрения ни от кого не скрывал, — с горечью произнес Рандольф. — Но это тебя не оправдывает.
Руперту, по-видимому, стало его жаль, и он извинился.
— Дайте мне слово, что до Фредди ни при каких обстоятельствах не дойдет то, что я скажу. Ни до Фредди, ни до кого-либо другого. Как бы дело ни повернулось. Даете?
Читать дальше
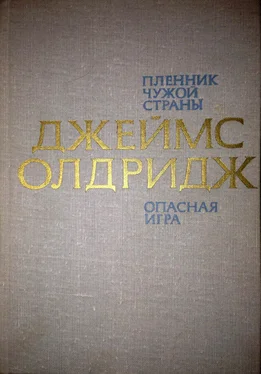

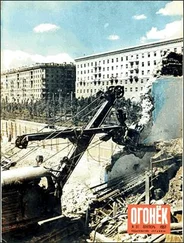

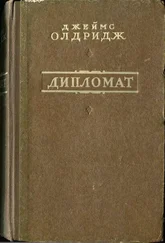



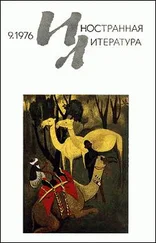
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)