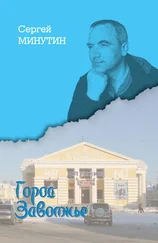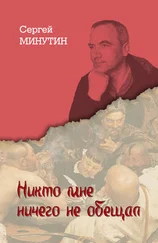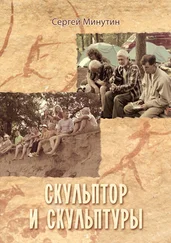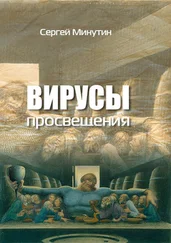Сергей через любимых женщин влюбился и в Питер. Он обнаружил, что до Питера о женщинах не знал ничего. Да, у него была первая любовь «до глубины души», но она не коснулась тела. Потом была вторая, и третья, но эти женщины выматывали и душу, и тело. Они чего–то хотели, чего–то просили, были чем–то недовольны. Они больше «охотились» за ним и ублажали какие–то свои мысли, чем любили. В Питере Сергей нашёл совершенно других женщин. Им, кроме него самого, ничего более нужно не было.
Это открытие так поразило его, что на него навалилось тяжким грузом вся его никчёмная жизнь до такой степени, что он впервые в жизни в объятиях женщины разрыдался, как ребёнок. Это были не просто слёзы. Это были реки слёз. Он ревел и бормотал: «Почему это именно сейчас и именно со мной».
Те вершины, до которых поднимался Сергей с питерскими женщинами, многим его однояйцовым коллегам даже не снились. Только два любящих сердца могут слиться в экстазе. Всё остальное, как говаривал герой из фильма, «брехня». Бог браков не придумывал, но любовь он дал. Он даже определил места для любви. И Питер стал для Сергея таким местом. Многие книги классиков открылись для него другими гранями. Он интуитивно понял, что о той любви, которую испытал он, знали М. Булгаков и В. Орлов. Именно они привели человечество к мирскому пониманию таких понятий, как Бог — Отец и Богиня — Мать. Одно целое, неделимое, вечное. Тосковал о такой любви Ф. Достоевский. Догадывались, но так и не достигли понимания Л. Толстой, Э. Золя, Н. Гоголь, Куприн и многие другие. Да почти все великие писатели догадывались. Если бы они не догадывались, они бы просто ничего не написали. Иронизировали на тему любви (могут ли люди шутить над Богами?) А. Чехов, Г. Байрон и, конечно, А. Пушкин.
Александр Сергеевич знал о нашем мире всё, поэтому Богом считал себя — «старика», а Богиней — «старуху», вечно из–за своих капризов сидящую у разбитого корыта. Но это Пушкин, ему за его гениальность все Боги всё простят.
Учёба в академии пролетела быстро. Выбор округов для дальнейшей службы в распадающемся СССР значительно сузился. Сергей не предпринимал никаких мер по их выбору. Выбор сузился до денег, а их–то как раз и не было. Его «сослали» в Забайкальский военный округ.
Оказавшись на задворках России, Сергей разве что не выл волком на Луну. Его охватила такая тоска при виде бескрайних степей, заваленных мусором, брошенных военных городков, домов без окон и дверей, что он «разразился» длинным трактатом, который назвал «Даурия как отражение власти».
В нём он писал: «Родина. Какая она? Для каждого своя. Забайкалье, 18 июня, 1891 года. Цесаревич Николай, будущий Царь — Николай II, путешествуя по Дальнему Востоку, был проездом в Чите, где и позавтракал с казаками. В 1894 году цесаревич становится царем. Благодарное казачество в порыве святой радости и умиления от его восшествия на престол устанавливает на месте завтрака чугунную плиту с указанием числа, года и рода занятия».
Плита эта и поныне хранится в Читинском музее боевой славы, расположенном в Доме офицеров, и первой встречает каждого посетителя.
Может быть, сама эта чугунная плита и была выдержана в стиле Гоголя или Салтыкова — Щедрина, но казаки народ хитрый и свободный, зря стараться не станут, поэтому уже через год после вступления Николая II на престол начинается строительство Китайской военной железной дороги. Железную дорогу прокладывали быстро. Как грибы вдоль неё появлялись разъезды. Наиболее важные из них: торговые, военные, перегрузочные, сырьевые — разрастались до поселков и получали названия.
Так в 1905 году один из железнодорожных разъездов получил название «Даурия». Поселок этот становится одним из самых важных военных поселений на всей КВЖД. До революции 1917 года в нем дислоцировались первый Аргунский и второй Аргунский казачьи полки, занимавшиеся охраной границы с Монголией, Китаем, и выполняли таможенные функции. Непосредственно военный городок по приглашению русского царя строили австрийцы с 1905 по 1912 гг.
Ими были построены госпиталь, офицерский клуб, церковь и несколько казарм из красного кирпича. С ростом военного городка рос и гражданский поселок, бурно развивалась торговля. Народ ехал туда в основном на заработки или на государеву службу. Ехали ненадолго, а часто получалось, на всю жизнь: Забайкалье крепко удерживает всех, кто туда приезжает».
Трактат получился длинный, скучный, нудный и совершенно не похожий на «лебединую песню» военной службы. Сергей писал: «Человек смертен, но отношение к смерти у живых разное. В те годы и в том месте оно заслуживало уважения. Кладбище разместили на самой высокой сопке так, чтобы видно оно было отовсюду, и поселок с этой сопки был виден весь. Сочетание жизни и смерти, радости и грусти, а, главное, вечности. Хоронили русских, австрийцев, бурят на одном кладбище, ставили им добротные бетонные памятники.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу