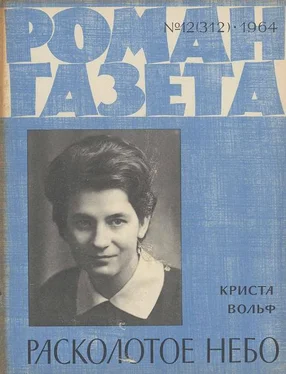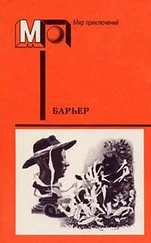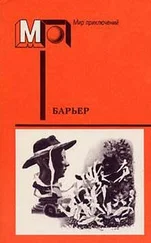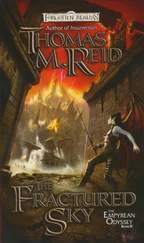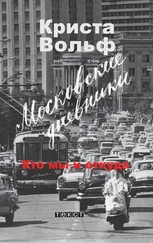— Позаботься же о своей невесте! — однажды, оставшись с Манфредом наедине, сказала она таким тоном, словно поведала какую-то тайну.
Ответить грубостью на эту деланную заботу о Ритином здоровье он не мог. Правда, он не очень-то доверял бескорыстию своей матери, но на нюх ее, когда дело касалось собственной выгоды, вполне мог положиться. Она уловила слабость и подавленность, которые он сам еще несколько месяцев назад желал бы видеть в Рите, и сочла их верным признаком заболевания. Тогда Манфред решился осторожно поговорить с Марион о состоянии Риты. Явно польщенная, она поглядела на него снизу вверх и заверила, что никто так не восхищен Ритиным умом и способностями, как она, хотя, нечего греха таить, самой ей и того и другого явно недостает.
— Рита вполне на своем месте, — сказала Марион. — Ей можно только позавидовать.
Она вздохнула и дала понять, что сама не чувствует себя на своем месте. Но тут он оборвал разговор.
Манфред делал трогательные попытки помочь Рите пережить трудную для нее полосу. Подавив в себе ревность ко всем и вся, кто соприкасался с Ритой, он сам познакомил ее с Мартином Юнгом. Тот приезжал раз в три-четыре недели из маленького тюрингского городка 3., чтобы обсудить ту или иную главу дипломной работы с Манфредом, своим научным руководителем. Манфреда радовали успехи, которых наряду с практической работой достиг в науке молодой человек, инженер на заводе синтетического волокна. Пришлось Манфреду заняться и «Дженни-пряхой» — машиной, которую Юнг намеревался усовершенствовать, и то восхищался ею, то сердился на нее, словно это была его подруга.
— Вы же видите, она не оставляет мне времени для других девушек, — говорил он Рите, упрекавшей его за отшельнический образ жизни.
Юнг, беспечный, но не легкомысленный юноша, интересовался всем на свете, больше всего своей специальностью и меньше всего девушками — может быть, потому, что они сами бегали за ним.
— У вас слишком выигрышная внешность, — выговаривала ему Рита. — Мужчины от этого легко задирают нос!
Мартин терпеливо выслушивал любые ее замечания. Когда он приезжал, они от души веселились. Он приносил пластинки, а Рите — дешевые конфеты, каких от Манфреда она никогда не получала, потому что он презирал их. Стоило появиться Мартину, и в маленькой комнатушке, где им теперь бывало уже скучновато по вечерам, закипала жизнь. Он танцевал с Ритой на пыльном темном чердаке под аккомпанемент пластинок или читал лекцию о джазе, к которому питал слабость.
— Рядом с ним я кажусь себе глубоким стариком, — признавался иногда Манфред, когда Мартин уходил.
Он любил Мартина, что с удивлением и радостью отметила Рита. А юноша испытывал к старшему другу какое-то почтительно-робкое чувство, почти обожание. У Манфреда никогда раньше не было близкого друга, и он считал это позорным пятном. Теперь пятно смыто, теперь его тайное желание исполнилось, и, конечно же, Манфред приписывал это появлению в своей жизни Риты.
— Ты принесла мне счастье, — сказал он однажды, когда Мартин уже ушел, но в комнате словно бы еще не утих поднятый им вихрь, и они, улыбаясь друг другу, остались в полной тишине, которую воспринимали сейчас как благо.
Рита по-прежнему спала рядом с Манфредом, удобно положив голову на его левое плечо. От его дыхания шевелились кончики ее тонких волос. Она все еще восхищалась теплом его тела, а он — нежной гладкостью ее кожи, которую любил ласкать. Но случалось теперь, среди ночи он просыпался, когда Рита теснее прижималась к нему, и видел, что она лежит с открытыми глазами.
— Что с тобой? — спрашивал он и гладил ее волосы.
Она делала вид, будто только что проснулась, и качала головой. Ей не хотелось отвечать. Она не знала, как выразить свои чувства, ей казалось, что в глубине души он вовсе не желает знать, что угнетает ее.
Наступила осень, хмурая и тягостная. Листья, как мокрые тряпки, шлепались о грязную мостовую. Дворники сметали их в большие грязные кучи и куда-то увозили. Уже в октябре над городом повис туман — туман, какого нигде больше не бывает, тяжелый, плотный, пропитанный едкой вонью. Он месяцами висит над городом. Люди пробираются по улицам ощупью, держась за заборы, или сидят в одиночестве по своим комнатам, и сердца их сжимаются от тоски по упущенным возможностям — потерянной любви, непонятой боли, неизведанной радости и никогда не виданном солнце чужедальних стран. Движение на улицах замирает. Даже сильные фары грузовиков, чьей клади с нетерпением, как хлеба насущного, дожидаются заводы на окраинах города, с трудом проникают в красновато-молочную стену тумана.
Читать дальше