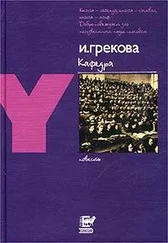— Как можно так рассуждать? — чирикала Ада Ефимовна. — А если бы такое с вами случилось, что бы вы сказали?
— То бы и сказала: бог ушиб — и лежи. Чем чужой-то век заедать, лучше помру по-хорошему. Смерть одна — что в больнице, что дома.
Панька, обычно в таких случаях молчавшая, неожиданно произнесла свое мнение:
— Всем помирать. Мне помирать. Тебе помирать.
Неясно, что это значило, но, кажется, она была согласна с Капой.
— Зачем вы ее-то обвиняете? — сказала Ольга Ивановна. — Она больной человек, ее привезли, и все.
— Больной-то больной, а все ж понимать надо, — сказала Панька.
Я купила кое-каких гостинцев — яблоки, шоколад, печенье — и постучалась к Громовым.
— Войдите, — сказал Вадим.
Анфиса Максимовна лежала в широкой, нарядно убранной постели. Казалось, женские руки готовили эту постель. Строченый пододеяльник, пышные, высоко взбитые подушки, нарядное, атласное одеяло. На подушках — бледное, худое лицо, до странности измененное ежиком седых волос. Анфиса, всегда такая женственная, в этом виде была похожа на старика. В глубине лица словно плавали ставшие огромными серые глаза. Она меня узнала, оживилась, заговорила горячо и быстро:
— Кара-ти-ти-кара! Ти-ти-кара-кара-кара. Кара-ти-ти-кара!
В этом потоке звуков были какая-то безумная выразительность, беглость, ритм.
— Содержательная речь, — сказал Вадим. Он сидел у стола полуспиной к нам.
Анфиса Максимовна взглянула на него с негодованием («Боже мой, она все понимает!» — подумала я) и опять заговорила теми же звуками, но в другом порядке, в другом тоне:
— Ка-ра-кара-кара-ти-ти-кара! Ти-ти-кара-кара-кара-кара!
Казалось, она говорит вполне осмысленно, но на чужом языке... Я положила гостинцы на стул у кровати (он был щегольски застлан белой салфеткой). Она закивала мне и опять заговорила по-своему. На этот раз все было понятно — она благодарила меня...
— Ну, довольно, — сказал Вадим и подошел к постели. — Посмотрели, и хватит. Нам пора спать. Правда, мама?
Он погладил ее по седой щетинистой голове. Она умоляюще, нежно и косо взглянула на него снизу вверх.
Я ушла.
Шли дни, недели, месяцы. Состояние Анфисы Максимовны было все то же. Вадим по-прежнему за ней ухаживал. Его изводило, сбивало с ног обилие стирки. Только что все переменит, вымоет, положит чистое — опять двадцать пять.
Целыми днями он стирал и кипятил простыни. На кухне постоянно можно было видеть его мрачную фигуру, согнутую над корытом. Всякую помощь он отвергал.
— Дай постираю, мне дело привычное, — предлагала Капа.
— Не надо, — отвечал Вадим.
Белье он развешивал тут же на кухне, для чего протянул над плитой ряд рыболовных лесок, и даже грозная Панька не смела ему ничего сказать. Стряпал он тоже сам, неумело и гордо, не терпел, чтобы ему советовали. Сварив обед, шел кормить с ложечки Анфису Максимовну. Он кормил ее, как сердитая нянька опостылевшего ей ребенка;
— Ам-ам, открой рот. Открой, тебе говорят. Ам-ам, не отлынивай.
Потом кое-как обедал сам, ел остывшее, невкусное, без интереса. Мыл посуду и снова стирал.
Он втянулся в такую жизнь, он уже забыл, что бывает другая. Деньги у него пока были, заработанные на целине, а на будущее он не загадывал. Как говорил Клавочка: либо шах...
Иногда он сердился на мать, ссорился с ней — это когда ему казалось, что она косноязычит нарочно. Учил ее разговаривать:
— Ну, мать, полно лодырничать, давай заниматься. Открой рот, говори «а». Понимаешь? «А-а».
— Кара-ти-ти-кара, — отвечала Анфиса Максимовна.
— Брось ты свою титикару, — сердился Вадим. — Говори «а».
Она очень старалась, мычала, трясла головой, но ничего не выходило.
— Глупая! Я же для тебя стараюсь. Вот научишься говорить — все сможешь сказать, все попросить. Захочешь чаю — попросишь чаю. Другого захочешь — тоже. А сейчас ты как зверь бессловесный. Будешь учиться, а?
Нет, ничего не получалось. Вадим сходил даже на консультацию к логопеду, но тот ничего путного не посоветовал, говорил о торможении, о нервных центрах, о лечении заик гипнозом, спросил, сколько пациентке лет, а когда узнал — умолк и перестал советовать.
Вадим решил учить мать уже не разговору, а грамоте. Купил разрезную азбуку.
— Смотри, вот буква «а». А вот «м». Вот я сложил «мама». Понимаешь? «Мама» — это ты.
Он тыкал ей в грудь пальцем. Она тараторила, кивала и тоже тыкала в грудь пальцем здоровой руки.
— Молодец! Все поняла. Теперь сама сложи — «мама».
Он брал ее руку в свою, направлял холодные, вялые пальцы, складывал их щепотью...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу