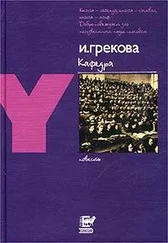Капа замолчала, снова откашлялась и спросила:
— А что, Ольга Ивановна, если я у тебя ночевать останусь? Крепко я себя разбередила, страшно одной ночевать, покойники придут.
— Пожалуйста, Капитолина Васильевна. Ложитесь на кровати, я на полу лягу.
— Нешто я допущу, чтобы хозяйка — да на полу? У меня раскладушка есть, слава богу, не нищая.
Капа принесла раскладушку, мы постелили, легли. Комната моя узенькая, раскладушку пришлось поставить почти вплотную к кровати. Капа долго ворочалась со скрипом и звоном, потом сказала:
— Жизнь — это срам.
Я не отвечала.
— Ольга Ивановна, ты спишь?
— Нет, не сплю.
— А по-твоему, бога нет?
— Думаю, нет.
— А какая же спадчая?
— Какая спадчая?
— А лампа. Слушай, что со мной было. Хотела я свечку Николаю Угоднику поставить, большую, за рубль. И вдруг обуяла меня жадность, выбрала другую, за пятьдесят копеек. Поставила, думаю: «Угоднику все равно, а я женщина бедная». И что же ты думаешь? В тот же день вечером сижу вяжу чулок, а лампа над моей головой как взорвется да как упадет, и осколок от абажура прямо так на меня и спал. Бог-то видит, что пожалела я денег на свечку, вот меня и наказал. А абажур-то, он не рубль — он целых два пятьдесят стоит. А ты говоришь: бога нет.
— Спите, Капитолина Васильевна, ничего я не говорю. Спите спокойно.
Она еще поворочалась и затихла, заснула. А я не спала до утра.
Вадим приехал через несколько дней черный-черный, с каким-то усохшим лицом — и сразу в больницу. Анфиса его не узнала. Лежала она в палате на десять человек. Голова обритая, взгляд бессмысленный. Кругом стонали, хрипели, жаловались другие больные. Анфиса лежала молча, с глазами, затянутыми тусклотой.
Вадим целые дни проводил в больнице, всех врачей поднял на ноги. Врачи отвечали: что мы можем? Тяжелый инсульт, вся правая сторона парализована, речевые центры тоже.
— Она поправится? Будет ходить? — спрашивал Вадим у врачей как у нерадивых слуг.
Ему отвечали неопределенно, скорей отрицательно:
— Пока неизвестно. Поражения глубокие, но, может быть, постепенно некоторые функции восстановятся. Организм в основе своей здоровый... Сердце работает не плохо.
Скоро в больнице привыкли к его присутствию. Он приезжал каждый день, ставил цветы к изголовью Анфисы Максимовны и садился рядом на шаткий стул. Сидел он так часами, стиснув на коленях большие смуглые руки. На запястье левой шли часы, стрелки двигались быстро, он не замечал, как проходило время. Он смотрел в лицо, искаженное болезнью. Один глаз был открыт, но бессмыслен, другой прищурен и словно подмигивал.
— Мама, — окликал он ее время от времени, — мама, ты меня слышишь?
Мать глядела на него насмешливо, словно говоря: «Ага! Добился своего?»
Когда приносили еду, Вадим брался за ложечку и пытался кормить больную. Неизвестно, глотала она или нет; иногда в горле у нее булькало и что-то вроде глотательной судороги проходило по шее. Жидкость выливалась из бесчувственных губ, пачкала наволочку. Вадим приподнимал тяжелую щетинистую голову, подсовывал под нее полотенце, снова подносил ложку к свинцовым губам.
В уход за матерью он ринулся очертя голову — ожесточенно и самозабвенно. Он не только кормил и мыл ее, он выполнял и другие процедуры, от которых мужчины обычно уклоняются, оставляя женщинам все нечистое, отвратительное. Вадим ни от чего не уклонялся, все делал с непроницаемым, гневным, темным лицом.
Когда Анфисе Максимовне стало хуже, он добился разрешения оставаться в палате на ночь. Женщины поздоровее роптали: «Зачем в палате мужчина?» Парализованным было все равно. Вадим сидел истукан истуканом, послушно отворачивался, когда предлагали ему отвернуться, но как-то удивлялся тому, что это важно. Труднее всего ему было, когда он ловил чей-то шепот: «Вот это сын! Всякой бы матери такого сына!» Тогда он стонал себе в нос. С врачами был строптив и требователен, раздражал их ироническими замечаниями, не скрывая, что считает их лодырями, неучами, даром жрущими свой хлеб. Врачи отвечали ему дружной неприязнью.
— Поймите, мы не боги, — сказал ему молодой ординатор с розовым благополучным лицом. — Мы делаем все возможное, уверяю вас, но случай практически инкурабельный. Прибавьте возраст, тучность... Каждая жизнь имеет предел.
Вадим чуть его не прибил. Он боролся за мать, он знать не хотел ни о каких пределах. Он хотел, чтобы она жила, чтобы еще хоть раз сказала ему «сынок».
Проводя в больнице дни и ночи, он урывками ел в соседней забегаловке, а спал тут же в палате на скрипучем стуле, ронял голову и просыпался. Глаза у него провалились, нос обвелся резкой чертой, даже горбина какая-то прорезалась хищно, что-то страшноватое появилось во взгляде.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу