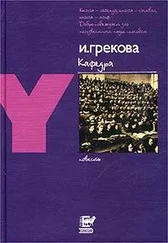— Милости прошу, — сказал декан, жестом приглашая ее садиться.
Она села, и он сел.
— Я вас слушаю.
«Как в суде», — подумала Анфиса и заволновалась.
— Не знаю, как и начать. Сын у меня, Вадим, единственный, с сорок четвертого года. Нынче десятилетку кончил, подал документы в ваш институт...
— Ну и что?
— Недобрал на экзаменах.
Декан помрачнел.
— Что ж я тут могу сделать? У нас не лавочка и я не сиделец...
— Не знаю... Я к вам за советом.
— Вы понимаете, что от меня ничего не зависит? — закричал декан. — Я даже не имею отношения к приемной комиссии! А если б и имел...
— Понимаю, — сказала Анфиса Максимовна и встала.
— Нет, ничего вы не понимаете! Сядьте, балда вы этакая! — Он насильно ее усадил, больно дернув за руку. — Вы небось думаете: бессердечный старик, может помочь, а не хочет! Думаете, а?
Анфиса Максимовна испугалась. Она действительно в эту минуту именно так и думала. Декан захохотал:
— Я, знаете, умею читать мысли.
— Лучше я пойду, — сказала Анфиса.
Она стала приподниматься с кресла. Кресло было глубокое, вставать трудно.
— Сидеть! — цыкнул декан. — Раз уж пришли, так пришли, придется сидеть. Расскажите мне все по порядку. Что за сын, почему недобрал, может быть, недоразумение, выясним...
Приоткрылась дверь, и мягкая, полная, белая старушка просунулась и спросила:
— А, у тебя гости, Сережа? Я не помешаю?
— Помешаешь — свирепо сказал декан.
Старушка засмеялась и исчезла. И так почему-то завидно стало Анфисе... Вот и она могла бы, сложись все иначе, стучаться к мужу и спрашивать: «Не помешаю?» Молодости она никогда не завидовала — только спокойной старости.
— Слушаю вас, — повторил декан, сложил руки, неподвижно установил нос и почти прикрыл глаза загнутыми бровями. — И, пожалуйста, как можно подробнее.
Часа через два успокоенная, повеселевшая Анфиса Максимовна, стоя у остановки, ждала автобуса, чтобы ехать домой. Автобус долго не шел, и хорошо, что не шел — в кои-то веки подышишь воздухом. И небо розовое было такое красивое, с кудрявыми тучками. Давно не видела неба, все некогда было взглянуть, вот жизнь-то какая... А какие хорошие Сергей Петрович и Софья Владимировна! Есть же люди — хорошо живут. Не в книгах счастье и не в мебели, а в любовном покое. Чаем напоили, к чаю крендельки пухлые, нежные, во рту тают. Верно, сама пекла. Хотела спросить рецепт — постеснялась. А у Софьи Владимировны ручки-то, ручки — маленькие, нежные, как те крендельки.
Сергей Петрович ничего определенного не обещал, но она ехала домой радостная, и даже в автобусе какой-то дядька ей сказал:
— Счастливая у вас улыбка, девушка!
Наверно, пьяный. А все приятно...
Приехала домой. В комнате темно: верно, Вадим куда-нибудь ушел. Она зажгла свет и увидела, что он не ушел, а лежит на кровати, закинув длинные ноги на спинку, а глаза с ненавистью смотрят в потолок. В руке — погасшая папироса.
— Вадик, что с тобой? Болен?
— Здоров.
— А лежишь почему?
— Хочу и лежу. А что? Нельзя полежать человеку?
— Отчего нельзя? Устал — раздевайся и спи.
— А я хочу так.
— Кто ж это лежит одетый? С ногами на покрывале, а мать стирай. У меня руки тоже не казенные. Утром с ведром, вечером с корытом...
— А кто тебя просит? Сам постираю.
— Знаю я, как ты стираешь. Папироску в зубы, пых-пых — и пошел. А мать надрывайся.
Вадим сел на кровати и закричал:
— Не надо мне твоего надрыванья! Понятно? Прекрати свое надрыванье!
Он вскочил и стал на нее надвигаться с таким безумным лицом, что Анфиса Максимовна перепугалась. Она взвизгнула и начала отступать, заслоняясь руками, словно от удара. Но Вадим не ударил.
— Все ты врешь, вот и сейчас врешь, будто я тебя хотел бить! Очень мне нужно руки об тебя марать!
Он одевался судорожно, не попадая в рукава, наконец попал, свирепо застегнулся и выскочил за дверь.
— Вадим, куда ты? Вадим, вернись!
Но его и след простыл. Только хлопнула дверь на лестницу.
— Скандалисты, — громко сказала Зыкова в соседней комнате. — Терпеть не буду, выселю через суд.
Анфиса Максимовна рухнула на кровать. Ей было все равно, что за стеной Панька Зыкова. Пусть себе злыдничает. Анфиса Максимовна ударила кулаком в стенку, окровавила кулак, поглядела на него с удивлением. Боль была приятна. Тогда она с размаху ударила головой в ту же стенку. В горстях у нее были собственные волосы, она с наслаждением их рвала и уже не плакала, рычала. Она слышала, как отрывается каждая прядь с головой вместе, и думала, что это хорошо — без головы. Во рту у нее оказалось одеяло — она закусила его зубами и рвала на части, рвала. Потом она почувствовала на голове легкий идущий дождик, что-то холодное, и замерла с одеялом в зубах. Струйки дождя текли ей за шиворот.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу