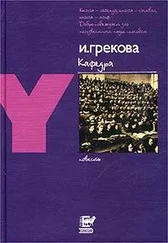— Не хулиганить!
Она испугалась, притихла. Чего-чего, а хулиганства за ней никогда не было. Решила молчать.
К вечеру у нее поднялась температура, не очень большая, 37,9, а все-таки.
— Сама виновата, накричала себе, — сказала строгая.
— Сына бы мне, — попросила Анфиса.
— Не положено. Спи, мамаша.
— Умер, верно? Скажи, не томи.
— Умер? Никто не умер. Смертность у нас изжитая. Спи.
Анфиса забылась. В полубреду ей казалось, что белая стенка палаты надвигается, надвигается, а там, за стеной, ее сын. Его к ней не пускают. Вот он уже вырос, встал на ножки и идет к ней ножками: топ, топ... А его не пускают, и он умирает. Где-то рядом копают ему могилу. «Положите меня с моим мальчиком, закопайте меня с моим мальчиком!» — кричит, надрывается Анфиса, но никто не слушает. И опять явь и белая стена, а за стеной мальчик, его закопали.
Когда она проснулась, был белый день в белой палате, за окнами подушками лежал молодой снег, а на потолке играли зайчики. Вокруг женщины кормили детей — белые пакетики на белых подушках. Вошла нянечка, — не та, строгая, а другая, веселая, — на каждой руке по свертку, по ребенку, положила к двум женщинам.
— А мой? — спросила Анфиса. — А мой? — И вдруг вспомнила, что его закопали, и крикнула: — Моего закопали?
— Зачем закопали? Орет петухом, — сказала веселая. — Твой-то на всю детскую самый горластый. Генералом будет. Мы его так и зовем: генерал Громов. Несу, несу.
Она вернулась еще с двумя свертками. Один из них орал: это и был Вадим. У него было гневно-красное, напряженное лицо, он ворочал головой туда-сюда, что-то ища слепым разинутым ртом.
— Товарищ генерал, кушать подано.
Нянечка положила ребенка на подушку рядом с Анфисой. Он орал отчаянно, злобно, без слез. Она совала ему грудь, он не брал, злился, крутил головой, тыкался носом. И вдруг поймал сосок, ухватил, зажевал беззубыми деснами. Пошло молоко. Ребенок глотал усердно, отчетливо.
— Хорошо сосет, — одобрила нянечка. — Активист.
Молоко шло обильно, тугой струей. Ребенок морщился, кашлял, сердился, терял сосок, и опять находил, и опять трудился — глотал, глотал.
Анфиса кормила своего сына. Она вся переливалась в него, в своего хозяина. Никто никогда не был ей таким хозяином, ни Федор, ни Григорий, никто. Только Вадим.
Через несколько дней Анфису выписали. Приехала за ней опять Ада Ефимовна, верный товарищ. Чирикала, умилялась, что ребенок очень уж мал. Говорила о святости материнства.
— Я никогда не знала этого счастья. Все для искусства и для фигуры. И что? От искусства оторвана. Фигуру, правда, сохранила, а для чего? Фигура есть, а жизни нет.
«И правда, — подумала Анфиса, — на кой она, фигура, когда жизни нет». А вслух сказала с лицемерием:
— Не жалейте, Ада Ефимовна, еще неизвестно, как у кого судьба обернется.
Вадим орал.
— Красивый ребенок, — сказала Ада, заглянув в щель одеяла. — Оригинальная расцветка. Только почему он кричит? У меня в ушах вроде обморока.
Приехали домой. Дома — одна Капа.
— А ну-ка покажи.
Показала.
— А ну-ка разверни.
Развернула. Вадим копошился и орал, криво суча красными ножками.
— Ничего, ребенок справный, цвет свекольный, — похвалила Капа. — Свекла-то, она лучше, чем репа. Репный ребенок плохо живет. А у твоего — руки-ноги, все на месте. Орет зычно, шумовик. Звуку от него много будет. Я-то ничего, Панька задаст тебе жару за шум.
— Ребенок ведь, понимать надо.
— А я говорю: кошка? Ребенок.
Вадим орал.
— Федору радости, — сказала Капа. — Вернется, а ему суприз — кока с маком.
— Не надо, Капа.
— А я что? Я ничего. Мое дело маленькое. Ты блудила, ты рожала, ты и отвечай.
На столе стоял букет. Анфиса удивилась:
— Откуда?
— Психованная принесла. Нет чтобы полезное что: распашонку, чепчик... Цветы...
Капа так и называла Ольгу Ивановну: психованная. Не любила ее, хоть и пользовалась, когда та платила ей за дежурство. А по-Анфисиному: не любишь — не пользуйся.
К вечеру пришла Ольга Ивановна. Молча поцеловала Анфису, молча оглядела Вадима своими синими, пристальными, в желтых тенях глазами. Дергалось что-то у нее в лице.
— Спасибо, Ольга Ивановна, за цветы.
— Не за что, Анфиса Максимовна. Я же вас люблю.
Хорошо стало Анфисе, что ее кто-то любит.
Одна Панька Зыкова к Анфисе не заглянула. Притворялась, будто ей неинтересно.
Вадим и в самом деле оказался самостоятельным, трудным ребенком. Орал днем, орал ночью почти без перерыва. Рот у него, можно сказать, не закрывался. Положишь — кричит, на руки возьмешь — кричит, стоймя поставишь — опять кричит. Покормишь, насосется — и обратно кричит. Да как! Весь синий становится, до того негодует. Носила в консультацию, сказали: здоров, а почему кричит — неизвестно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу