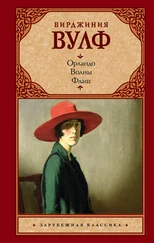- Родись я, - Бернард говорил, - не зная, что одно слово тащит за собой другое, из меня, кто знает, что угодно могло бы выйти. А так, вечно гоняясь за сопряжениями, я не выношу гнета одиночества. Не вижу, как слова надо мною кружат дымными кольцами - и я во тьме, я ничто. Когда один, я впадаю в апатию и уныло твержу сам себе, кочергой разбрасывая пепел с каминной решетки: не беда, вот миссис Моффат придет. Придет и все подметет. У Луиса, когда он один, прорезывается ястребиная зоркость, и он набрасывает две-три летучих строки, которые всех нас переживут. Роде лучше одной. Она боится нас оттого, что мы разбиваем чувство существования, такое острое в одиночестве, - смотри, как вилку сжимает - оружие против нас. А я только тогда оживаю, когда водопроводчик, коневод, да мало ли кто, скажет что-нибудь и я загорюсь. И как же прелестно дымок моей фразы поднимается, опадает, опадает и реет над красным омаром, над золотыми плодами и сплетает из них общий венок красоте. И фраза-то, заметьте, халтурная, из черт-те каких приблизительностей составлена и потасканной лжи. Итак, мой характер частью зависит от чужих поощрений и, стало быть, не вполне мой, вот как у вас у всех. Какая-то роковая черта, неправильный, отклонившийся сосудик серебряный, что ли, его портит. Потому-то я так бесил, бывало, Невила в школе - я его бросал. Уезжал на линейке вместе с хвастунами в круглых шапочках, при значках; кстати, вон они и здесь кое-кто сегодня; очень по моде одетые, вместе ужинают перед тем, как строем протопают в мюзик-холл; я их любил. Просто они делают меня существующим абсолютно так же, как вы. И потому-то, опять-таки, когда я вас оставляю и поезд уходит, вы чувствуете, что это не поезд уходит, а я, Бернард, которому на все с высокой горы плевать, он ничего не чувствует, и у него нет билета, и может быть, он посеял бумажник. Сьюзен разглядывает веревочку, которая виснет между буковых листьев, и плачет: "Его нет! Он от меня ускользнул!" А просто не за что тут уцепиться. Я создаюсь и пересоздаюсь непрестанно. Разные люди тянут из меня разные слова.
Потому-то - не с одним человеком, а с пятьюдесятью я хотел бы сидеть рядом сегодня. Но я же, из вас единственный, чувствую себя здесь как дома, не позволяя себе развязности. Я не фат; я не сноб. Пусть я открыт давлению общества, зато, благодаря ловкости языка, часто могу и кое-что посложней ввести в оборот. Смотрите, какие игрушечки я в секунду сплетаю из ничего - и как они забавляют. Я не скопидом - после меня останется только набитый старым тряпьем шкаф, - и мне, в общем, безразлична разная житейская шелуха, из-за которой так мается Луис. Но я понес большие убытки. С моими венами из стали, из серебра, весь в прожилках обыкновенной грязцы, я не могу собраться, сжаться в тесный кулак, как те, кто не зависит от внешнего побужденья. Я не способен к самоотреченьям, геройствам, как Луис и Рода. Мне не видать успеха, даже в речах, и даже совершенную фразу я сочинить не сумею. Но я внесу больше в этот летучий миг, чем любой из вас; я увижу иные места, больше разных мест, чем любой из вас. Но вот поди ж ты, раз что-то в меня идет снаружи, не изнутри исходит, меня забудут; и когда мой голос умолкнет, вам напомнит обо мне только эхо того дальнего голоса, который вплетал во фразу золотые плоды.
- Посмотрите, - Рода говорила, - послушайте. Посмотрите, как от секунды к секунде свет делается богаче и все заволакивает в цвета спелости; и наши глаза, блуждая по этой зале, по столикам, будто пробивают плотное полотно кармина, охры и умбры, в еще неведомых, дрожащих отливах, и оно уступает взгляду нежно, как шелк, и снова за ним смыкается, и все перетекает одно в другое.
- Да, - Джинни говорила, - у нас расширились чувства. Наши мембраны, нервные сплетенья прежде болтались без дела, белые, дряблые, а теперь напряглись, натянулись и нас укрыли плавучей сетью, и она делает осязаемым воздух и из него выбирает такие далекие звуки, каких и не бывает на свете.
- Гул Лондона, - Луис говорил, - вокруг нас. Непрестанно туда-сюда проносятся автомобили, фургоны, омнибусы. Все вертится колесом единого звука. Отдельные звуки - шорох колес, рваные вопли рожков, выкрики пьяниц и гулливого сброда - все взбиты в единый звук, сизо-стальной, округлый. Но вот воет сирена. И ускользает берег, плющатся трубы, корабль выходит в открытое море.
- Персивал уезжает, - Невил говорил. - Мы тут сидим, окруженные, освещенные, разноцветные; всё - руки, гардины, ножи и вилки, чужие жующие челюсти - перетекает одно в другое. Мы все в этих стенах. Но Индия - далеко.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу