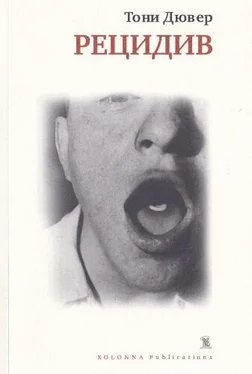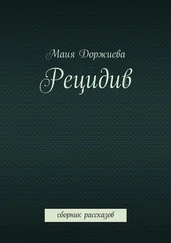Хотелось ли ему говорить? Я забыл, что завтра подвал разрушат. То был прощальный вечер.
Я лишний. В пригородах он отыщет другие заброшенные дома с глубокими подвалами; под развалинами, травой, пылью он будет по-прежнему зажигать свечу и смотреть на огонь. Я знал все о его жизни, любовных связях, одиноких играх в этой норе; о ночи, к которой он прислушивался, безразличный к моему присутствию, погруженный в собственное тело.
Он не спал. Его грудь медленно и равномерно вздымалась. Когда я встал, он даже не шевельнул головой.
Он встретит рассвет в одиночестве. Я оставлял идеальный белый труп.
Уличные фонари горели тускло. Ехали машины, автобусы; ни одного прохожего. Я замешкался на минуту перед зданием, вспомнив о раненом, лежавшем на втором подвальном этаже, но тут же поспешил прочь.
Я повернул обратно, спустился по лестнице, нашел ребенка. Он согласился выйти со мной.
Улицы были пустынны. Светила только луна. Жалюзи на витринах опущены. Малыш заметил:
— Все в метро. Там удобнее кончать с собой.
— Да, по дешевке.
Я решил понести его на руках. Он был измотан и заснул.
Я поправил его свесившуюся на грудь голову. По пути я снова возжелал это хрупкое тело.
Мало-помалу зажегся свет, мимо проезжали машины, встречались пешеходы.
Мы вошли в гостиницу.
Я уложил его на свою кровать; он отвернулся и насупился на подушке.
Я прижался к нему. Закрыл глаза, и в мозгу всплыл образ: свернувшийся клубком парнишка, сжатый у головы кулак, пухлые и лоснящиеся плечи, приоткрытые губы, за резцами острый язык. Я долго думал об этом, но затем сонные волны, исходившие от его теплого тела, затопили и меня.
Когда я проснулся, влажный рот касался моей шеи, а легчайшие волосы щекотали мне лицо. Прежде чем разлепить веки, я понюхал эту шевелюру и напряг мышцы под изгибами и округлостями другого тела. Заключив меня в объятья, ребенок прижался к моему животу и груди.
Я не смел шелохнуться.
Он спал спокойно и неподвижно; лишь слегка подрагивали губы.
Наконец он зашевелился и проснулся. Едва заметив меня, резко встал, оделся и хлопнул дверью.
Я вернулся на вокзал. В вышине напротив касс висело табло с информацией об отправлении поездов; внизу — зеркальная стена. Я увидел в ней долговязого, опасливого парня с непроницаемым лицом. С трудом узнал самого себя. Я отвернулся и взял билет для выхода на перрон, чтобы отправиться в зал ожидания.
Хотя лил дождь, когда он вышел с завода, в нос ударила пыль. Он повел свой мопед за руль.
На багажник поставил спортивную сумку с рабочей одеждой и прислонил мопед к стене у дороги.
Он причесался. Лило как из ведра. Но он все же закурил, ведь он два часа промечтал о том, как затянется на улице сигаретой, подумав тогда еще блядский ливень носа наружу не высунешь, а потом увидел отражение своего красивого лица в жирном кафеле цеха, и стало не по себе.
Он сел на мопед, мы выставили руки под дождь, помедлили.
— Ну что, поехали?
Он быстро покатил вниз.
— Мы же решили. Плевать!
Я приволок мотоцикл, вывел его на дорогу.
Он поехал впереди, понесся стремглав, он разобьется, как пить дать у этой блондиночки шило в жопе. Он живет в деревушке в пяти километрах от завода, в каком-то пригороде. Город опоясан заводом. Между ними захолустье, купы невзрачных халуп, картофельные поля, мусоросжигатель и лесок, где летом встречаются пидорки. Они зарабатывают на этом немного бабла. Их не щемят. Я тебе, а ты мне, баш на баш: если зажопят, они платят. Есть такие, что просят о пустяке: потрогать за ширинку, пощупать яйца, полизать сраку — эти-то платят больше всех.
Возможно, он понял, что его пасут, если очертя голову помчался на мопеде.
Пыль. Затвердевая и спрессовываясь, она превращается в стены и дорогу, стволы деревьев и влажную траву. Рассыпаясь и блуждая, несется по тротуарам, лижет вам ноги, обметает окна, помалу поднимается, чернит небо, улетучивается и снова падает на землю. Запыленные люди, глаза, ступни, лохмы, белье, еда, супруги и покойники. После каждого дождя она выступает кругляшами, мокротой, прыщами, стекающей накипью на стенах, угольными лужами во дворах. Весь город выстроен из этой подавляющей грязи, без пыли не было бы ни домов, ни жителей, ни колымаг. Как полновластная хозяйка, она осыпается с высоты соборов, дремлет на трамваях, чахнет в пригородных палисадниках, и четвероногие пенсионеры сажают в пыли хилые примулы. Ею намазывают пузо, подтираются, харкают во время секса, это не земля, а толченое стекло, металлолом, лысые шины, опилки, шнурки, гнилые зубы, стертый в порошок помет, растоптанные пластмасски, сажа, зола, рассыпавшиеся книжки, разложившиеся собачьи и раздробленные птичьи тушки, стариковские кости; когда в пыли есть земля, у нее бархатистый, привлекательный вид, ее кладут в суп вместо масла, и после того как суп доедят, на дне остается вкусный глинистый осадок.
Читать дальше