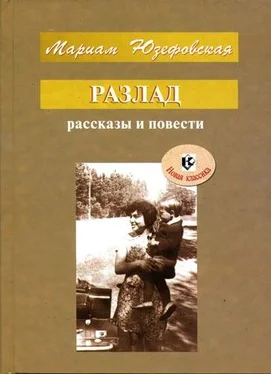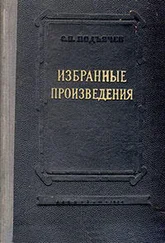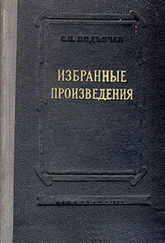– Ефимовна, а Ефимовна! Может, горе какое? Так скажи! Все-таки не чужие.
Как вскинулась она тогда, как закричит на него дурным голосом:
– Ненавижу! Сдох бы ты поскорее, что ли, освободил бы меня!
Он затих за перегородкой. Затаился и молчит. А потом, слышит, плакать начал. Плачет и все шепчет:
– За что?
И слышно ведь все до шороха: как вздыхал, как ворочался, как во сне всхлипывал и кашлял. «И правда, – думала она, трезвея. – Его-то за что? Господи, мне теперь не то что свобода, мне теперь и сама жизнь ни к чему».
А вскоре смирилась. Только однажды был у нее случай. Зашла в кабинет, а там во всем Пранасовы руки видны. Еще и стружкой пахнуло. И будто зверь в ней проснулся. Стакан с графином на пол смела. Начала все крушить, ломать. Главное, решетку на окне хотела с корнем вырвать, чтоб и следа не осталось. «Ненавижу!» – корчилась и билась в ней то ли ненависть, то ли тоска. Сама толком не могла понять. Но хотелось кричать криком. «За что меня? Разве я проклятая? За что?» Сдержалась. Заткнула рот рукой. «Не приведи бог, вдруг кто услышит». Потом образумилась: «Видно, верно говорят – ворон ворону глаз не выклюет. Ведь правда, кто я им?» И засобиралась было на Рязанщину. Но после задумалась: «Куда ехать? Родню там всю растеряла, кто умер, кто уехал. Место, почитай, незнакомое. Только что Родиной зовется. Дак ведь это так – название одно. Видно, уж отрезанный я ломоть для всех». Так и осталась.
Вот уж скоро год прошел. С той поры много воды утекло: Пранас уволился и куда-то сгинул, мужа схоронила. И осталась одна, как перст. Раз в дикой тоске руки на себя наложить хотела, но духу не хватило. После свыклась: «В жизни и не такое бывает. Вон, мужья жен бросают, не то что полюбовниц. Да и перестарок я для него, ему бы молодуху какую под стать». Только иной раз вспомнит бабкино присловье: «Прожитое – что пролитое – не воротишь», – и усмехнется: «Верно, ой как верно».
Минск,1981 г.
У нас в роду все мужчины меченые. У всех левая бровь шрамом рассечена. Прадеду, рассказывают, хозяин-немец сапожной колодкой метку поставил. Деда и отца на войне метили. Только одного в 14-м году, а другого в 41-м. А у меня совсем особый случай.
Я девчонкой родилась и очень тосковала из-за этого. Да и дед с отцом сокрушались: кончался наш род, умирала фамилия. Не рождались в семье мужики, а которые были – те в начале войны погибли. Один отец с фронта пришел. На меня надеялись, имя приготовили – наше, родовое. Из поколения в поколение передавалось – Александр. Но здесь промашка получилась. Родилась я девчонкой. Что ж делать? Имя оставили, а остального не поправишь
Но вела я себя – как заправский пацан. Ходила круглый год в шароварах, зимой носила отцовскую офицерскую шапку – отец был у меня кадровым военным. И мальчишкам нашим, гарнизонным, ни в чем не уступала. Ножички, маялка, пристенок – во все игры с ними играла. И даже докуривала втихую отцовские папиросы «Беломор». Стригли меня коротко, стриг наш же гарнизонный парикмахер, прическа была не то бокс, не то полька. Да и фамилия была ни мужская, ни женская, а так, серединка на половинку – Мейн. Из-за этого, видно, в небесной канцелярии и произошла промашка. Занесли меня сослепу в мужской пол, вот судьба и решила пометить. Да такой урок дала – на всю жизнь запомнился.
Жили мы тогда в Башкирии. Среди голой степи стоял наш военный городок. Одно только название – городок, а в действительности – три барака для солдат, чуть поодаль финский домик, где размещался штаб, да с десяток землянок. Их построили для себя еще военнопленные немцы. Там-то и жили офицерские семьи.
Не то чтоб совсем землянки, окна – вровень с землей, полы деревянные, крашеные, да и вниз всего пять ступенек. Были эти землянки теплые, добротные, но зимой как заметет, как запуржит снегом бывало, так законопатит, что если б солдаты не откапывали, так сидеть бы до весны и куковать. И мы жили в такой землянке, хоть отец комбатом был, только наша землянка была ближе всех к штабу.
Зимой тоскливо, в округе на десять километров ни одного строения, ни одного домика. Заберешься украдкой на вышку, окинешь заснеженную степь взглядом, и глазам больно от белизны. А где-то далеко в степи горят факелы. Тогда, в начале пятидесятых годов, попутный газ жгли, не жалея. За колючей проволокой, которая окружала наш городок, была снежная белая пустыня.
Чем еще запомнилась зима? Зимой нас на санях возили в школу в поселок. Мы ведь местных совсем не знали, их к нам не пускали через посты и колючую проволоку, а мы к ним тоже ни ногой. Так и жили: они – своей жизнью, мы – своей.
Читать дальше