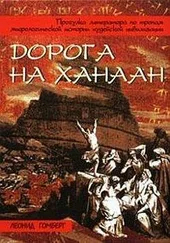— Русский шук (базар), — отрывисто сказала Стефка.
Лицо ее стало сумрачным и напряженным. Около товара сидели понурые старики и старухи, изредка громко переговариваясь между собой. Полковника я заметила не сразу, он сидел, низко надвинув на лицо широкополую соломенную литовскую шляпу. Увидев меня, смутился. Но тотчас вскочил на ноги и шутовски-театрально обвел рукой разложенный перед ним товар: деревянные ложки, соломенные шляпы, расписные кухонные доски и литовскую вышитую рубаху. Она лежала распростав рукава, словно подставляла свою грудь этому сжигающему все дотла солнцу. В центре ослепительно блестела связка чешских бус. Поймав мой взгляд, он прикрыл их вышитым полотенцем и натянуто засмеялся:
— Как говорил Бенчик, вот хлеб нашей бедности.
— А где твой кровопиец-мароканец? — стараясь попасть ему в тон, спросила я.
Винник посмотрел на вытянутое лицо Стефы и расхохотался:
— Эту мансу (небылицу) мы со Стефой придумали для Бельчонка и девочек.
— Муж и жена — одна сатана, — с натужной игривостью сказала я. — Где же ты бродишь ночами старый греховодник?
Винник нехотя пробормотал:
— Видишь ли, я здесь организовал общество самообороны: посты, дежурства. Все чин-чинарем. Иначе эта арабская братва… — Он кивнул на людей в белых длинных рубахах навыпуск, пасших за изгородью стада коз и овец — …Совсем распояшется. Здесь неподалеку их осиное гнездо. — И показал на гору, где почти впритык друг к другу стояли дома с плоскими крышами.
— Но это же опасно! — не сдержавшись, воскликнула я.
— А что прикажешь делать? Слов они не понимают. Такой народ — признает только силу. — И его выпуклые глаза под тяжелыми веками сверкнули металлическим блеском.
— Садись есть, — оборвала его Стефка, — с вечера ни росинки во рту. — Она уже разложила на картонном ящике белую салфетку, хлеб, судки с едой, бутылку воды. — Нам пора. Что-нибудь наторговал сегодня?
— Да, — Винник торопливо полез в карман, вытащил оттуда несколько мятых купюр, горстку мелочи.
Стефка аккуратно пересчитала, разглаживая каждую бумажку. Назад мы шли другой дорогой, мимо каких-то мастерских, откуда раздавался нестройный стук молотков. И этот звук нарастал в моих висках и сливался со стуком сердца. «Это с непривычки от солнца», — мелькнула мысль. А молотки вызванивали свое: «Я видел в этой жизни богатство и бедность. Я охотился за людьми, и люди охотились за мной».
— Ты помнишь Бенчика? — неожиданно вырвалось у меня.
Стефка искоса посмотрев, скупо проронила:
— Истинный праведник, помяни, Господи, душу его. Только в вашей семье он был чужим человеком. Никто его не понимал. — И неодобрительно поджала губы. Неподалеку от дома она потащила меня в какую-то лавку. Долго перебирала на полках пакетики с орехами, баночки йогурта, различные сладости и, сведя брови к переносице, строго спрашивала у хозяина с длинными вьющимися пейсами и в кипе:
— Кошер?
А когда мы вышли, коротко пояснила:
— Это для Машки. Ей теперь нельзя есть что ни попадя. Вера ее не разрешает.
— А твою стряпню? — спросила я.
И тут впервые я увидела, как у Стефки заблестели глаза от слез. Она отрицательно покачала головой, но тотчас, овладев собой, сурово сказала, — смотри, не проболтайся Белке. И про деньги ни слова.
— Ты что, Стефа? — опешила я.
— А то, — отрезала Стефка. — Она цену трудовой копейки никогда не знала и знать не хочет. Как что где увидит, так сразу тянет к себе. А нам это не по карману теперь. Девочке приданое надо собрать? Надо! Квартиру надо сменить? Надо!
Когда мы вернулись, Белка уже была дома.
— Наконец-то, — обрадовалась она. — Где вы шатались? Пора обедать.
— Сама знаю, — проворчала Стефка и надела фартук.
— Это тебе на хозяйство. — Тетя протянула Стефке деньги.
Та быстро пересчитала и хмуро спросила:
— А где еще пять шекелей?
— Ты видишь? — Тетя оглянулась на меня и хлопнула ладонью по столу. — Она совсем обнаглела здесь!
— Стучи, не стучи, — спокойно сказала Стефа, — а пять шекелей — как корова языком слизала.
И разве мы не в деснице Твоей, Господи?
И разве не из рабства души своей лежит
путь исхода каждого из нас?
Эти щемящие воспоминания детства! Мы с Бенчиком сидим у изразцовой печки в его доме. На улице морозно и темно. Теплый круг света от лампы падает на толстую, в кожаном переплете, книгу Бенчика. Я осторожно переворачиваю плотные шелковистые листы, переложенные пожелтевшей тонкой, пергаментной бумагой. Худой палец Бенчика точно неведомая птица клюет страницу за страницей: «Это гробница царя Давида на горе Сион, а это Масличная гора, где находятся древние захоронения», — внезапно палец его замирает, словно в нерешительности. Он выжидательно смотрит на меня. И тогда я, гордясь своими познаниями, подсказываю: «Храмовая гора. Стена плача». Лицо Бенчика проясняется, разглаживается, молодеет. И вот мы, сблизив головы, нетерпеливо перелистываем книгу. Наконец, вот оно — Иерусалим, план старого города. Палец Бенчика скользит по изломанной линии городской стены, по пути то и дело останавливаясь:
Читать дальше


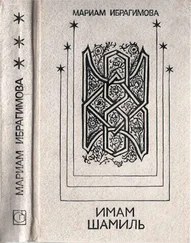

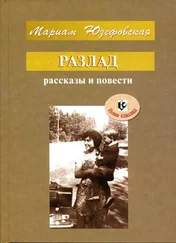
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](/books/62844/mariam-petrosyan-dom-v-kotorom-izdanie-2-thumb.webp)
![Фредерик Пол - В поисках возможного [В поисках возможного завтра]](/books/87403/frederik-pol-v-poiskah-vozmozhnogo-v-poiskah-vozmo-thumb.webp)