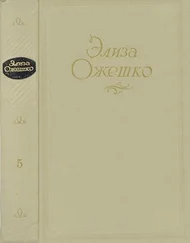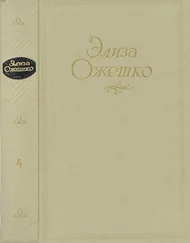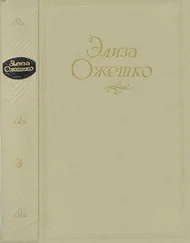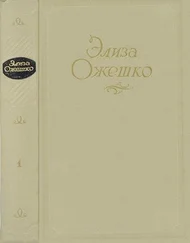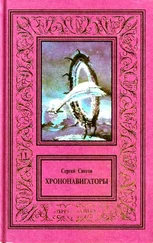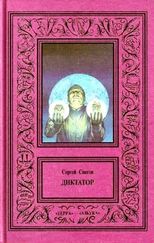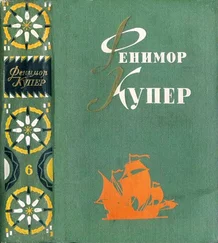Дважды в месяц под ответственность бригадира их выпускали из зоны.
Бригадир их вел окраинными улицами к стоянкам такси, к остановкам трамваев, к тем местам, где функционировали шалманы. Бригада собирала окурки сигарет. Иногда домовладельцы давали работу — убрать двор, перенести уголь. После работы, бывало, гнали вон, бывало, кормили или давали деньги, на которые в одной пивной остарбайтерам отпускали пиво. На обратном пути товарищи Рухина обсуждали удачи и неудачи «пасхи» — так называли они выпускные дни. В жестяных коробках из-под зубного порошка и мелких конфет копались, окурки сортировали, потрошили, спорили.
Рухин окурки не собирал, шел позади своих товарищей, читал афиши, воззвания, объявления. Старые камни оград и домов напоминали ему о том «растворе», о котором говорил Учитель, о «растворе, которым держится мир». «Сцепление вещей, — говорил Олег Михайлович, — загадки для поэтов, потому что поэт — не сочинитель, а постигающий то, что находится между вещами, — вещи же ему даны — вот они!» — Олег Михайлович обводил вокруг руками, как будто перед ним паслись послушные стада, улыбался и на время замолкал.
Остарбайтерам разрешалось ходить только по мостовой, и это правило Рухин признавал естественно вытекающим из травмы организованного величия аборигенов. Пошлая жизнь тротуаров, состоящая из жакетов и пиджаков, кепок и шляпок и множества лиц, удивляла юного поэта: как, однако, многообразны семейства охранников!
О существовании заводов здесь можно было забыть, но и здесь они тонко присутствовали. Именно они своим существованием формировали жесткое единство горячего железа и надменность охранников, порядка и пива, страны и линий еще далеких фронтов. Человек — изложница металла — эта метафора навязчиво заполонила воображение юного поэта. Вергилий, который провел Данте по всем кругам некогда сбывшихся жизней, теперь будто водил его по руинам и улицам еще живого города.
Рухин понял, что надзиратели, говорившие о поэзии, шли к смерти, предчувствовали ее, но ничего не могли изменить. Их тревога, и мстительность, и возрастающая смелость суждений были не опровержением, напротив — усиливающейся готовностью к смерти. Рухин искал слово, которое бы заключало в себе смысл «академии» и «кладбища», и остановился на слове — «финалисты».
Человек — изложница металла относилась к тем, кто был готов пить струю чугуна в надежде увековечить себя через смерть.
…«Юный мой Ученик, как бы я хотел, чтобы вы страстно полюбили противоречия и были им преданы, как епископ символу веры. Может быть, из всех уроков самый трудный этот. Я обещаю, Юрий, вам наслаждения, которые знает лишь настоящий поэт. Люди ловят воздух там, где у поэта под ногами твердь, и потому профанам кажется, он идет по воздуху. Поэт носит в кармане пропускной билет и в Ад, и в Рай. Он перекидывает арки и мосты между несовместимостями, склеивает „позвонки столетий“, служит колоннам капителью. Я постиг, к сожалению, это слишком поздно.
Вам, мой ученик, будет диковинно узнать, при каких обстоятельствах я извлек из опыта свое поучительное резюме.
Однажды, дорогой, я выходил из ресторана в сильном подпитии. То есть — в состоянии „доброго молодца“. Я крикнул: „Швейцар, такси!“ И слышу: „Я не швейцар, а адмирал военно-морского флота“. Вы понимаете, я перепутал мундир адмирала с ливреей швейцара. Я тотчас поправился: „Тогда, любезнейший, катер!..“ Как поэт, я не ошибся… Вы поняли, что я имею в виду? Быть поэтом — рискованное занятие, но иначе не соорудить что-то подобное куполу собора Петра и Павла. Для этого необязательно быть таким мрачным честолюбцем, каким был Микельанжело»…
Дорогой учитель, как бы я хотел прочесть вам строки из моей поэмы «Верните аисту перья!» [3] Поэму назвал так после того, как в долине взлетел на воздух патронный завод. Воздушная волна была такой сильной, что у аиста, гнездившегося недалеко от завода, вырвало все перья. Рухин наткнулся на его голое ногастое тело и попросил у птицы прощение за всех людей.
. Каждый день я дополняю ее двумя-тремя строфами. Как я скучаю по вашим урокам, нашим беседам, даже по панцирю черепахи на вашем письменном столе…
Через два месяца поэма была закончена.
Рухин узнал об этом случайно в одну из «пасх». Он, как всегда, шел следом за своей бригадой и вдруг почувствовал, что уже ничто не может проникнуть за ограду его поэмы. Ни марширующие по улице юнцы, ни девушка с газовой косынкой на плечах, ни пастор, сунувший ему с шепотом молитвы булочку, завернутую в пергаментную бумагу, ни листовки, сброшенные ночью с неба, предложившие жителям покинуть город, ибо он будет «dem Erdboden gleichgemacht» — сравнен с землею.
Читать дальше