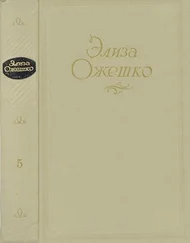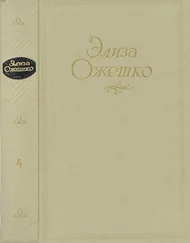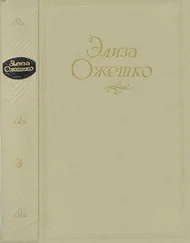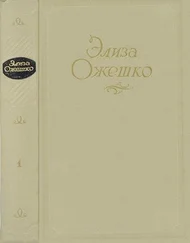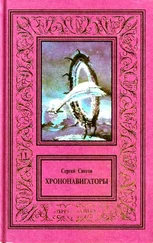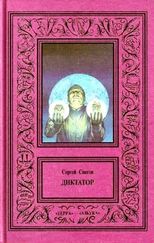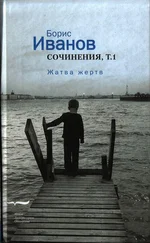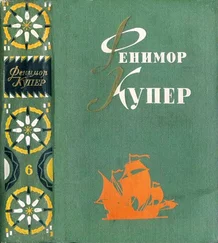Привожу выдержки из этого письма.
«<���…> В судьбе миллионов наших соотечественников больше лишений, чем праздников, больше страданий, чем радостных дней. Поэтому так ценим мы сегодня душевность и терпимость, снисходительность и доброту, и нет лучшего поощрения в трудном деле, чем сердечное понимание непростоты нашей общей жизни.
Судебный процесс над четырьмя москвичами, суровые приговоры Гинзбургу, Галанскову, Добровольскому и Лакшиной воспринимаются как неоправданная жестокость. <���…> Что бы ни говорилось на процессе, в каких бы преступлениях ни обвиняли Гинзбурга и других, а также прежде осужденных Синявского и Даниэля, им в вину поставили то, что они отважились выразить свои мысли и отношение к известным событиям и фактам. Не умысел, а горькая необходимость заставила их прибегнуть к помощи людей за границей. Ибо никакая словесность не может опровергнуть отсутствие гласности в нашей стране. Никакие юридические тонкости не способны скрыть, что применение уголовных наказаний к свободно мыслящим гражданам не согласуется с Конституцией СССР. <���…>
Знать, что на пятьдесят первом году советской власти репрессиям подвергаются люди за свои убеждения, как уголовные преступники, невыносимо больно. <���…>
Возможно, что при оценке судебного процесса над Гинзбургом и другими мы допускаем ошибку. Возможно, что они замешаны в преступлениях против государства — шпионаже и диверсиях. Возможно, что они действительно заслужили суровое наказание, но тогда необходимо открыто сказать, в чем их преступление. Телевидение, радио и печать могли документально точно показать лицо нашего врага. Каждому ясно, что процесс мог бы в этом случае дать чрезвычайно полезный воспитательный материал, поучительный для миллионов людей. <���…> Но мы пользуемся только слухами. Тот факт, что этот суд был окутан тайной, убеждает нас в том, что опять произошло беззаконие, которое необходимо скрыть от широкой общественности.
У нас нет надежды, что завтра же все великие гуманистические принципы, выработанные историей человечества и закрепленные в нашей Конституции, будут святы для всех. Но мы не сомневаемся, что этот день придет. Сегодня мы требуем пересмотра дела Синявского и Даниэля, мы требуем полной гласности при судебных разбирательствах, мы требуем не словесного, а действительного соблюдения Конституции.
17 января 1968 года».
До написания текста я еще мыслил в рамках «вынужденной лояльности», но те авансы доверия, которые были заработаны властью некоторыми моментами в политике Никиты Хрущева, были исчерпаны. Были утрачены надежды хотя бы на частичную либерализацию в культурной сфере. Некоторая часть советского общества в итоге составит открытую оппозицию режиму. Текст письма зафиксировал эту перемену.
Прочитав письмо, Майя Данини с ним полностью согласилась, но сказала, что адресовать его в ЦК КПСС не имеет смысла, это одно и то же, что направлять в КГБ. Следует разослать только по центральным газетам: «Правда», «Известия», «Литературная газета». «Но политика делается в Центральном Комитете», — возражал я. Спор разрешился тем, что Майя не поставила свою подпись под тем экземпляром, который уйдет в ЦК.
Потом меня навестил Борис Вахтин. Он сделал замечание, удивившее меня своей незначительностью. «Хорошо», — сказал я, внес поправку, сел за перепечатку текста. Вахтин должен был поставить подпись на следующий день. Однако на следующий день он не пришел. Ирина Муравьева подписала письмо без колебаний. Позднее, уже после того, как началась кампания преследования подписантов, я с удивлением узнал, что под текстом, кроме подписи моей, Данини и Муравьевой, появилась еще одна — историка, драматурга, критика Якова Гордина. Майя Данини, встретив Гордина в метро, рассказала о письме, которое у нее было с собой. И Яков тут же его подписал.
Пока система прокручивала через свои бюрократические шестеренки репрессивные указания, в рекламной конторе, где я надеялся обрести тихую гавань, назревали конфликты другого рода.
НИКАНДРОВ КАК МУРАВЕЙ СИСТЕМЫ
Дело было так. Утром в коридоре нашей конторы я увидел Валерия Грубина, совершенно подавленного. На него, интеллигентного, добродушного и смирного, было больно смотреть. Стал расспрашивать, что случилось. Оказывается, Никандров предложил ему подать заявление об увольнении «по собственному желанию». В противном случае главный редактор уволит его по статье за «профессиональное несоответствие занимаемой должности». Его обязанности были настолько просты — редактирование элементарных рекламных текстов, — что он, недавний преподаватель университета, быть ниже должностных требований просто не мог. Настоящая причина была совсем в другом. Делая на планерке свой первый обзор наших рекламных публикаций, Грубин некоторые из них раскритиковал. Как человек новый, он не подозревал, что критикует свое начальство, так как за качество публикаций непосредственно отвечал Никандров. Вторая вина моего коллеги заключалась в том, что он… еврей. Что было, во-первых, неправдой, а во-вторых — подлостью.
Читать дальше