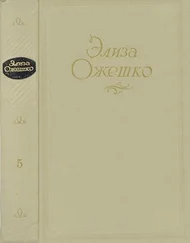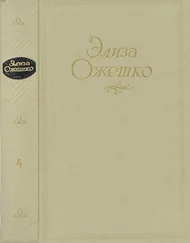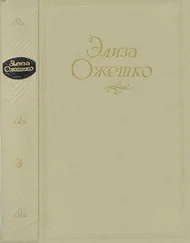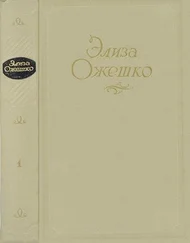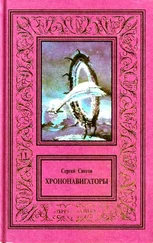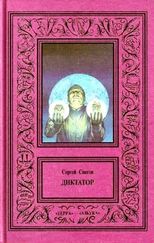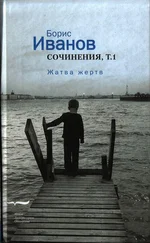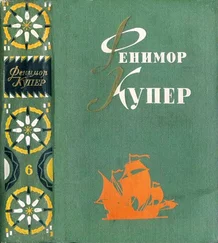Мое решение уйти из газеты в рекламу было началом пути, который я потом назвал — «планированием на социальную периферию», где вскоре окажется почти вся свободолюбивая молодежь, «разбросит сеть кустарных мастерских» петербургская неофициальность.
Мои вечерние и ночные сидения за письменным столом уже не были, как прежде, «социальным самоутверждением». В 1965 году вышла моя книжка прозы. Но к тому времени, когда она увидела свет, я написал или начал писать вещи, на публикацию которых рассчитывать уже не мог. Это не значило, что я вовсе отказался от всяких попыток что-либо опубликовать. Рецензенту рукописи моей второй книги (Кетлинской) что-то не понравилось, что-то было ею одобрено — вполне нормальная исходная ситуация для продолжения работы. Казус заключался в том, что «одобренное» я сам уже не одобрял, а внимать редакторским замечаниям не было никакой охоты.
И дело было не в том, что ты не уважаешь этого редактора, — ты не уважаешь и издательство, политика которого насквозь конъюнктурна, более того, ты не уважаешь всю или почти всю советскую литературу, принадлежность к которой не наделяет тебя чувством собственного достоинства. В конце концов, ты не уважаешь тот социум, который окружает тебя, потому что не уважаешь те мотивы, которые движут поступками большинства людей: приспособленчество, страх, мелочные расчеты. Еще несколько лет назад я мог дурачиться с приятелями на демонстрации 7 ноября. Теперь, после того как ответил на собственный вопрос: а что, собственно, мои сограждане в этот день празднуют — разгон красными штурмовиками первого в России демократического правительства! — от этого праздника на всю жизнь упала черная тень непроходимого абсурда. Я жил в уже перекошенном мире, в котором знаковые произведения времени не печатались. Но забрезжили другие пути к читателю и признанию: самиздат и тамиздат [6] Печальным примером служила судьба Рида Грачева, которого Вера Панова в 1960 году назвала надеждой русской литературы. Ни лучшие его прозаические сочинения, ни наиболее значительные переводы, например, «Миф о Сизифе» Альбера Камю, ни блестящие эссе о переживаемой страной и ее культурой ситуации опубликовать было невозможно. Все это увидело свет или в самиздате, или лишь через много лет.
.
Мысль: «нельзя жить в обществе и быть от него свободным» — кажется верной. Но быть свободным от ценностей этого общества можно, от его морали — можно, его искусства — можно; можно отращивать бороду вопреки диктатуре бритых, носить брюки, вызывающие раздражение обывателя. Это и многое другое — например, читать другие книги — можно. Не располагая политической и социальной свободой, можно располагать свободой внутренней. В этой возможности и скрывалась идея неофициального существования. Но быть внутренне свободным — это значит употреблять массу энергии и усилий для сбережения внутреннего мира. Это что-то вроде переправы на дырявой лодке: работаешь веслом — тонешь, вычерпываешь воду — никуда не движешься.
«Внутренний мир» — это действительно МИР, «микрокосм» — как называл его Н. Бердяев. Как МИР, он нуждался в Боге, в философии, в авторитетах, в своей истории и своих заповедях. Он нуждался в средствах самозащиты и в способности стоически восстанавливать его после того, как соблазны внешнего мира оставили в нем прорехи.
ЕЩЕ ОДИН ЖЕСТОКИЙ ПРИГОВОР
Я тихо работал в рекламе, занимался философией, писал прозу, иногда получались стихи, начал пробовать себя в живописи. Раза два в месяц посещал занятия в Центральном лито, которым руководил Виктор Семенович Бакинский, не претендовавший на художественное руководство и вполне заслуживавший человеческого доверия. На чтения коллег приходили Андрей Арьев, Игорь Смирнов, Борис Крайчик, Федор Чирсков, Владимир Алексеев, Сергей Довлатов и другие непечатаемые прозаики. Довлатов, который не мог мне простить критики его рассказов о «зоне», как-то отплатил мне. Когда я прочел несколько глав из повести «Подонок», он с актерской выдержкой спросил: «Ты это сам написал?» После одного из заседаний Б. Вахтин, М. Данини, Ирина Муравьева и я отправились в кафе. Мы были подавлены только что закончившимся процессом над Гинзбургом, Добровольским, Лакшиной и Галансковым и жестоким приговором. Вина их заключалась в том, что они приняли участие в составлении «Белой книги», рассказывающей о суде над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.
Невозможно было не почувствовать, что началось драматическое единоборство интеллигенции с властью. Из размытого до поры до времени политического лица Брежнева выступила физиономия жестокого ничтожества. Кто-то из нас сказал: надо протестовать. Все четверо с этим согласились. Мы не преувеличивали значения подобных писем-протестов, которые, очевидно, можно отнести к политическим аутодафе. Но никак не ответить на преступление власти мы не могли. Составить текст предложили мне.
Читать дальше