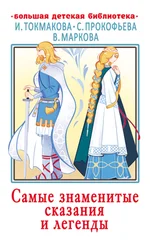Интерес к бретонской народной культуре пробудился во Франции и за ее пределами на рубеже XVIII–XIX веков, на волне кельтомании, возникшей благодаря выходу в свет «Оссиановых поэм» Макферсона. О бретонцах и их народной поэзии узнали после выхода в свет книги Barzaz Breiz (обычно переводится как «Бретонские песни»), в которой собрано множество баллад. В них фигурировали и барды, и друиды, и отважные рыцари. Ее автором был Теодор Эрсар де ля Виллемарке (1815–1895), который частично следовал примеру Макферсона и достаточно вольно обращался с текстами народных баллад, порой обрабатывая их до неузнаваемости с целью сделать их более «древними» и эффектными. Так, в настоящих бретонских балладах о друидах нет и речи, но от этого их сюжеты не были менее древними и почтенными.
Вскоре после выхода Barzaz Breiz автор был уличен в приукрашивании фольклорных текстов, и просвещенная публика была разочарована настолько, что Barzaz Breiz поспешно объявили подделкой. С тех пор французские ценители фольклора стали весьма скептически относиться к самому факту существования бретонской народной литературы.
Лишь в XX веке в результате исследований фольклориста Донасьена Лорана был частично реабилитирован де ля Виллемарке, и подлинность многих записанных им баллад была доказана. Но до середины прошлого столетия к публикациям бретонских фольклорных текстов и специалисты, и любители фольклора нередко относились с недоверием и пренебрежением. Во многом причиной этого было незнание бретонского языка просвещенной публикой, которая довольствовалась переводами на французский и не имела возможности обратиться к оригиналу и проверить аутентичность переводов.
Но все же энтузиасты продолжали собирать и публиковать фольклорные тексты. Первые записи бретонских сказок относятся к середине XIX века. Большое количество сказочных текстов было собрано и издано на французском языке Франсуа-Мари Люзелем (1821–1895), что позволило исследователям многих стран ознакомиться со сказками бретонцев (на родном языке сказки Люзеля были изданы гораздо позже – в конце XX века). Люзель же составил двуязычный сборник баллад и песен Gwerziou ha soniou. Широко известен и сборник La legende de la Mort Анатоля ар Браза, также первоначально опубликованный на французском, что опять же вызвало некоторые кривотолки. Публикация переводных, а не оригинальных текстов породила скептицизм. В то же время небольшими тиражами выходили сборники сказок на бретонском языке, которые не переводились на французский и, следовательно, не были доступны широкой публике. Коренным образом ситуация изменилась в XX столетии, особенно когда стало возможным записывать голоса певцов и сказителей – сомнения в подлинности сказок и песен отпадали сами собой.
Бретань на рубеже XIX–XX веков
Нелишне будет хотя бы вкратце обрисовать среду, в которой бытовали устные тексты XIX – начала XX века, легшие в основу переведенных и представленных в этой книге текстов.
Нижняя Бретань «неофициально» разделена на прибрежную часть Arvor и «лесную» Argoat. Разделение это скорее этнографическое, нежели географическое. Население побережья составляли жители мелких городов, в основном моряки и торговцы; позже, когда были построены заводы по переработке и консервированию рыбы (например, в Дуарненез), к ним прибавились и рабочие. Жители прибрежных рыбацких городков несколько пренебрежительно относились к крестьянскому населению «лесной стороны». Обитатели ферм довольно часто проводили всю свою жизнь, не выезжая дальше ближайшего городка, где проводились ярмарки. Существенные изменения наступили лишь во время Первой мировой войны, когда большинство мужчин было мобилизовано.
Крестьянское население в основном состояло из арендаторов и землевладельцев; довольно часто знатные или просто зажиточные семьи в течение многих столетий сдавали землю одним и тем же семьям арендаторов.
Жизнь и быт бретонской деревни до второй половины ХХ века отличались крайней консервативностью, что объяснялось экономическими проблемами региона. Взять хотя бы одну деталь: во многих населенных пунктах Бретани электричество появилось лишь после 1960-х годов. До середины, а в некоторых областях – и до последних десятилетий ХХ века в сельской местности и в небольших приморских городах женщины носили традиционный костюм: бархатное платье, крахмальный чепец и накрахмаленный воротник. Детали костюма, самой характерной из которых считается форма чепца, варьировались от местности к местности, так что по костюму можно было с большой точностью определить, откуда родом его носитель. Мужчины, как более активная часть населения, отказались от ношения традиционного костюма раньше женщин.
Читать дальше
![Коллектив авторов Бретонские легенды [litres] обложка книги](/books/435639/kollektiv-avtorov-bretonskie-legendy-litres-cover.webp)

![Коллектив авторов - Urban commons. Городские сообщества за пределами государства и рынка [litres]](/books/387248/kollektiv-avtorov-urban-commons-gorodskie-soobches-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Здоровые сосуды [litres]](/books/389270/kollektiv-avtorov-zdorovye-sosudy-litres-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Меня никто не любит, даже я сама [Как найти опору в себе?] [litres]](/books/398025/kollektiv-avtorov-menya-nikto-ne-lyubit-dazhe-ya-sama-thumb.webp)
![Коллектив авторов - V-Wars. Вампирские войны [сборник litres]](/books/401079/kollektiv-avtorov-v-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Мозг и сознание [Разгадка величайшей тайны человеческого мозга] [litres]](/books/406124/kollektiv-avtorov-mozg-i-soznanie-razgadka-velicha-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Гемини [litres]](/books/408133/kollektiv-avtorov-gemini-litres-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Хроники Домового. 2019 [сборник, litres]](/books/421778/kollektiv-avtorov-hroniki-domovogo-2019-sbornik-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Клыки. Истории о вампирах (сборник) [litres]](/books/427941/kollektiv-avtorov-klyki-istorii-o-vampirah-sborn-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/430776/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)