Затаив дыхание, Катя шагнула из куста на тропинку, посыпанную песком, и тут под каблуком ее что-то треснуло. «Кто там?» — резко, будто со сна, спросил Антон Петрович. Катя совсем перестала дышать: если он выглянет в окно и увидит ее, она умрет на месте. Господи, только бы не выглянул!
Комары жрали ее нещадно. Катя терпела. Так и стояла на тропке; вся подавшись к окну, с полуоткрытым ртом, как будто ей недоставало в саду воздуха. Потом сняла туфли и, босая, медленно раздвигая ветки смородины, стала пробираться к тому углу, где выломаны две дощечки.
Утром она опять стояла у своей машины, из которой наплывала на сукно, а потом на вал тепловатая и чуточку влажная бумага. Катя не выспалась, и глаза ее были красными. Ей было стыдно. То, что она сделала вчера, называлось в Успенске беспощадным словом «бегать». Бегать за кем-то. Надоедать. Выпрашивать любовь. Утешало только одно, что никто не знает ее унижений. Катя опасливо покосилась на упаковочную, где за длинными столами девчата отсчитывали бумагу. Не дай бог, узнают они о ее безответной любви! «Вот, скажут, Сережка да Евгенька несчастными из-за тебя ходят, а ты не по себе суй заломила». А что ей Сережка? Ну, красивый, чернявый, елисеевская порода вся красивая. Дело-то разве в этом. Или Евгенька Никитин. Самый сильный парень в Успенске. Станет перед конем — конь его грудью, а Евгенька коня плечом. И конь в сторону поворачивает. Но опять же, не нужна Кате Евгенькина сила. Ей нужен Антон Петрович с его сутоловатостью, длинными ногами и чуть прищуренными серыми спокойными глазами.
В обед, когда Катя, присев на рулон бумаги, уплетала картофельные лепешки, заскочила в самочерпку Валька Черемных, с новостью.
— Слушай, Катерина, кавалеры в Успенку едут.
— Какие еще кавалеры?
— Всякие. Известно, комиссия. Если два неженатых попадется, и то хорошо. Ну-ка, дай мне лепешку.
— А что за комиссия?
— Да по торфу, — небрежно сообщила Валька. — Антон Петрович затребовал. Раскопал в архиве какие-то документы, будто торфу у нас на болотах на сто лет вперед. Вот и потребовал: пришлите мне комиссию.
— Да какую комиссию? Сроду толком ничего не расскажешь.
— Ведь говорю же я — по торфу. Чтоб проверили, на сто лет его или меньше. Какой зольности.
— А на кой он сдался?
— Ну и дура ты, Катька. Торф дешевле леса. И даже ближе к фабрике. Все объяснять тебе надо. Ведь семь классов окончила.
Через минуту она опять уже говорила о кавалерах, стараясь заинтересовать подружку перспективой когда-нибудь поехать в Ленинград, если знакомство окажется прочным.
— Умный парень на городской ни за что не женится. Городские девчонки верченые, с ветерком. А сибирячек все любят. В прошлый раз из Свердловска комиссия приезжала, помнишь, какой паренек был? Два вечера с ним провела — на всю жизнь помнить буду. Культурный такой, обходительный, все «Валечка, вы». Так и уехал — все «вы» говорил. Писать обещался, да, видно, адрес потерял… Ты что молчишь?
— А что говорить-то?
Валька передернула полными плечами, аккуратно отерла розовые губы негнущимся накрахмаленным платочком, стряхнула с колен картофельные крошки.
— И чего я с тобой дружу, сама не понимаю. Будто языка у тебя нету. Ой, горюшко ты мое. Ну, пошла я. Да, чуть не забыла. Если тебе сукна на кофту надо — пиши заявление. Антон Петрович добрый, никому не отказывает!
Катя так и встрепенулась. Вон он желанный случай!
— Он сейчас в конторе?
— Конечно. Проси два метра, оно широкое, как раз на кофту хватит. Выкрасим в зеленый цвет.
Фабричные девчата частенько выписывали сукно, снятое с сушильной машины. Чуть поистерлась ворсистость, и машине уже не годится, а на кофты — чудо! И дешево, всем по карману.
— Вам сколько надо? — спросил Антон Петрович, даже не взглянув на Катю.
Он сидел в кабинете один. Когда-то за этим огромным резным столом сиживал англичанин Ятес. Девушки никогда не ходили к нему за сукном. Приглянется ему какая, скажет ей, чтоб пришла вечерком помыть полы в кабинете, и прощай девичья краса — испоганит.
— Мне два метра. В заявлении все указано, — прошептала Катя.
— У вас горло болит? — спросил директор и поднял глаза, серые свои глаза, на Катю.
Она испуганно затрясла головой — ничего у нее не болит! А сама стоит перед ним, как приговоренная, — ни слов, ни голоса!
Склонив над листом бумаги бронзово-рыжую голову, он что-то размашисто написал в уголке.
— Пожалуйста.
Все. Нужно уходить. Но Катя стоит как вкопанная.
Читать дальше
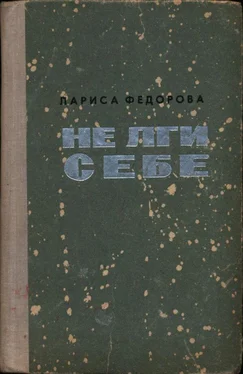

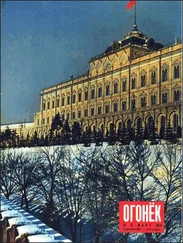

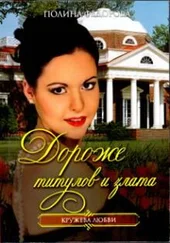

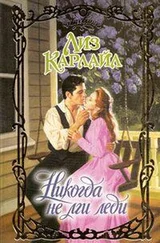


![А. Гейджер - Не лги мне [litres]](/books/396138/a-gejdzher-ne-lgi-mne-litres-thumb.webp)


