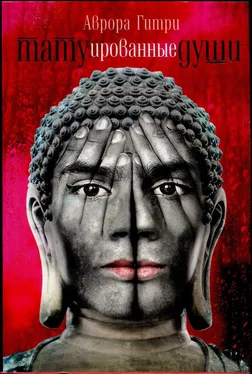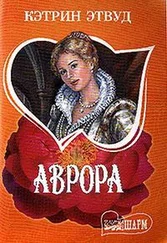— Ах, он крикнул всего пять раз. То, что я загадал, не исполнится. Я очень часто его слышу в последнее время. Теперь я буду относиться к нему внимательней, — восклицает Оливье, рассматривая меня со странным выражением лица. Потом он спохватывается и говорит: — Ладно, пойду принесу аптечку.
— Нет! Не трудитесь. Я сам позабочусь о себе, обещаю вам.
Я еще должен зайти попрощаться с Нок, не попасться на глаза палачам и успеть укрыться в своем новом убежище. При мысли обо всем, что мне предстоит сделать, чтобы не умереть, мое колено подергивается, как метроном, отмеряющий уходящее время.
— Я догадываюсь, что ты решил уйти от того, кто довел тебя до такого состояния, — говорит он, садясь рядом со мной.
Я киваю, бросая на француза удивленный взгляд. Неужели мое решение так ясно написано на моем лице?
— Это значит, что мы больше не увидимся? — спрашивает он, опуская голову.
Он сжимает руки, словно пытаясь уцепиться за что-то. Между его бровями появляется глубокая складочка, словно след от удара. Он прикрывает веки, чтобы спрятать кипящий в глазах океан. Я впервые вижу его печальным. И причина тому — я. Мое сердце прыгает, переполняясь угрызениями совести и радостью.
— Честно говоря, я очень хотел бы еще увидеться с вами… Точнее, хотел бы открыть для вас одно место: Патпонг.
Француз кажется удивленным.
Все фаранги знают это место. Они ходят туда за продуктами, тратят там деньги на безделушки, на девушек, доводят себя до изнеможения танцами с незнакомым телами. А я хочу, чтобы он нашел там новые краски жизни. Я хочу снова испытать чувство, которое посетило нас обоих на рынке, я хочу разделить его восторг перед вереницей новых лиц. Я хочу снова разбудить в нем желание творить. И хочу стать полотном для его картин. Хочу окончательно возродиться под его пальцами.
— Патпонг?
— Да. Там есть бар «Розовая леди». Я хотел бы… пригласить вас туда. Скажем, через две недели? На «Лои Кхратонг». Это праздник Реки. Мы могли бы встретиться у «Ориенталя», прогуляться по берегу и подняться к Тханон Сатхорн. Это не очень далеко. Я вас научу делать кораблики и пускать их на воду, я познакомлю вас с нашими обычаями, расскажу наши легенды…
Мои слова текут, я с горячностью описываю ему будущее, полное новых слов, изобилующее сокровищами, которые мы откроем вместе. Я обещаю ему чудеса, я продаю ему свою страну в надежде купить взамен новое лицо. Во время своей речи я смотрю на руки француза, которые медленно разжимаются. Он уже видит светящиеся радуги, которые я ему сулю, хотя сам ни разу их не видел.
Его пальцы-кисточки уже шевелятся на коленях, пробуждая во мне такое желание, что я в конце концов выкладываю ему цель своего посещения.
— И может быть, потом в вас проснется желание рисовать, и вы согласитесь раскрасить мое лицо.
Оливье вздрагивает и снова сжимает руки, словно лотос, закрывающийся при наступлении темноты. В его взгляде появляется испуг, он отшатывается от меня.
— Нет, я не смогу, — говорит он, отворачиваясь.
Мое сердце так громко стучит в груди, что заглушает бурчание кондиционера.
Зачем я заговорил об этом?
— Извините… Я не хотел вас…
Вслед за моим шепотом наступает молчание. Я безуспешно придумываю, как можно исправить положение. И чувствую, что уже слишком поздно, что я сказал что-то лишнее.
Ничего не прибавив, я резко встаю. Я покину этот дом, попрощаюсь с портретами, зайду к старухе и начну новую жизнь, молясь, чтобы Оливье согласился появиться в ней.
— Пхон! — восклицает француз, когда я уже собираюсь повернуться к нему спиной.
Он широко открыл глаза, они блестят, как сапфиры.
— Я обещаю обдумать твое предложение.
Я облегченно киваю. Мой взгляд в последний раз падает на его пальцы, и я не могу не улыбнуться, увидев, что они снова стали кисточками.
Декабрь 1986 года
Я смотрю в потолок. Я слышу, как он торопливо одевается, запихивает свой тяжелый живот в брюки. Я не могу смотреть на него. Я определяю местонахождение его слишком полного тела по резкой смеси запаха чеснока и алкоголя, по пропитанному табаком дыханию, которое старенький вентилятор не в силах рассеять. То, что я представляю, вызывает у меня тошноту.
— Мне подсунули негодный товар, — возмущается он, остановившись у двери. — Больше меня не проведут.
Он выходит, хлопнув дверью, и я облегченно вздыхаю. Я лежу некоторое время неподвижно, скрестив руки на груди. Я не думала, что мне будет так трудно перенести презрение этого противного пузатого типа. Перенести отвращение, с которым он обнаружил мои шрамы, отвращение, которое усилилось, когда он понял, что мое превращение еще не завершилось. Мой первый клиент подозревал об этом. Азиатов трудно обмануть. Они знают телосложение своих женщин. Для японца то, что он увидел, не было неожиданностью. А для белого — было. Толстый отвратительный фаранг, которого сосватала мне сутенерша, был потрясен.
Читать дальше