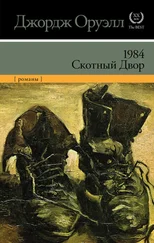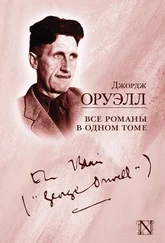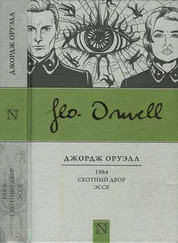But to the girdle do the gods inherit,
Beneath is all the fiends;
There’s hell, there’s darkness, there’s sulphurous pit,
Burning, scalding, stench consumption, etc. etc. [66] Наполовину – как бы божьи твари, Наполовину же – потемки, ад. Кентавры, серный пламень преисподней, Ожоги, немощь, пагуба, конец! ( Перевод Б. Пастернака. )
И даже конец его жизни – чего он не мог предвидеть, работая над статьей о «Лире», – внезапный, незапланированный уход из дома в сопровождении лишь преданной дочери, смерть на захолустной станции – будто призрачное напоминание о «Лире».
Что Толстой осознавал это сходство или признал бы его, скажи ему кто-нибудь об этом, предполагать, конечно, нельзя. Но на его отношение к пьесе тема ее, наверное, повлияла. Отречение от власти, отказ от владений – такой сюжет, вероятно, не мог не задеть его за живое. И следовательно, мораль, выведенная Шекспиром, должна была беспокоить и сердить его больше, чем мораль другой какой-нибудь пьесы – скажем, «Макбета» – менее близкой ему лично. Но какова же мораль «Лира»? Морали, очевидно, две: одна явная, другая подразумеваемая.
Шекспир начинает с того, что, лишив себя силы, ты тем самым навлекаешь на себя нападение. Это не значит, что на тебя ополчатся все (Кент и шут стоят за Лира с начала до конца), но охотник, скорее всего, найдется. Если ты бросил оружие, кто-то менее порядочный его подберет. Если подставишь другую щеку, по ней ударят сильнее, чем в первый раз. Это не всегда происходит, но этого следует ожидать, а коль произошло, не жалуйся. Второй удар, так сказать, вытекает из того, что другая щека подставлена. Таким образом, есть элементарная, здравым смыслом подсказанная мораль шута: «Не уступай власти, не отдавай владений». Но есть и другая. Шекспир нигде не высказывает ее прямо, и не так уж важно, сознавал ли он ее сам отчетливо. Она заключена в сюжете, который, в конце концов, сложил он или приспособил к своим целям. И она вот какая: «Отдай владения, если хочешь, но не жди, что это сделает тебя счастливым. Вероятно, не сделает. Если живешь для других, так для других и живи, а не для того, чтобы окольным путем на этом выгадать».
Ни тот, ни другой вывод, очевидно, не мог понравиться Толстому. В первом нашел выражение обыкновенный, земной эгоизм, от которого он искренне хотел избавиться. Второй противоречит его желанию и невинность соблюсти, и капитал приобрести, то есть убить в себе эгоизм и тем обрести жизнь вечную. «Лир», разумеется, не проповедь альтруизма. Он просто показывает, к чему приводит самоотречение из корысти. Шекспир был человек достаточно земной, и если бы его вынудили взять чью-то сторону в его же пьесе, симпатии его были бы на стороне шута. По крайней мере, он видел ситуацию всесторонне и мог представить ее на уровне трагедии. Порок наказан, но добродетель не торжествует. Мораль поздних трагедий Шекспира – не религиозная в обычном смысле и уж точно не христианская. Лишь две из них, «Гамлет» и «Отелло», происходят в христианское время, и даже в них, если не считать выходок призрака в «Гамлете», нет никаких указаний на «потусторонний мир», где все будет правильно. Во всех этих трагедиях исходной является мысль, что жизнь, хоть и полна горестей, стоит того, чтобы жить; Толстой же в преклонные годы не разделял этого убеждения.
Толстой не был святым, но очень старался им стать, и критерии, которые он применял к литературе, были не от мира сего. Важно понять, что разница между обычным человеком и святым – не количественная, а качественная. Иначе говоря, одного нельзя рассматривать как несовершенную форму другого. Святой – во всяком случае, святой в понимании Толстого – не стремится улучшить земную жизнь: он стремится покончить с ней и заменить ее чем-то другим. Очевидное свидетельство этого – его утверждение, что безбрачие «выше» брака. Если бы только мы перестали размножаться, сражаться, бороться и радоваться, фактически говорит Толстой, если бы смогли избавиться не просто от наших грехов, но и от всего, что привязывает нас к этой земле, включая любовь в обычном смысле – когда одного человека любят больше, чем другого, – тогда бы весь этот мучительный процесс закончился, и наступило бы Царствие Небесное. Но нормальный человек не хочет Царствия Небесного, он хочет, чтобы продолжалась жизнь на земле. Не потому только, что он «слаб», «грешен» и жаждет «земных удовольствий». Большинство людей свою долю удовольствий в жизни получают, но в итоге жизнь – страдание, и только очень молодые или очень глупые думают иначе. И в конечном счете корыстна и гедонистична как раз христианская позиция, поскольку цель всегда – уйти от мучительной борьбы в земной жизни и обрести вечный покой на небесах или в какой-нибудь нирване. Гуманистическая позиция состоит в том, что борьба должна продолжаться, и за жизнь платят смертью. «Men must endure/Their going hence, even as their coming hither:/Ripeness is all» [67] Должен каждый Терпеть, являясь в мир и удаляясь: На все свой срок. ( Перевод М. Кузмина. )
.
Читать дальше
![Джордж Оруэлл Скотный двор. Эссе [сборник litres] обложка книги](/books/431073/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres-cover.webp)
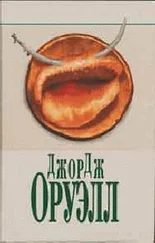
![Джордж Оруэлл - Хорошие плохие книги [сборник]](/books/33144/dzhordzh-oruell-horoshie-plohie-knigi-sbornik-thumb.webp)