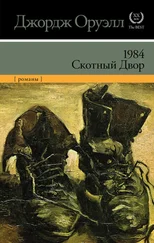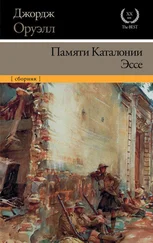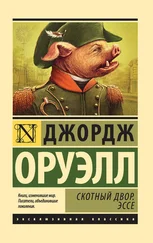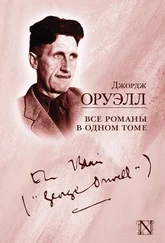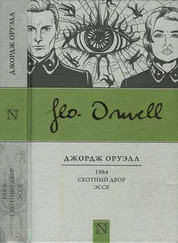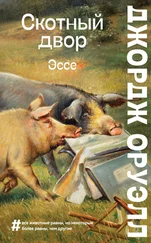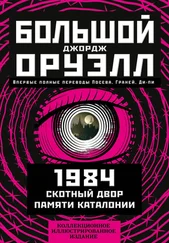И наконец, еще одно короткое сравнение. Сравните чуть ли не любую из утопий Уэллса, например «Современную утопию», или «Сон», или «Люди как боги» с «Дивным новым миром» Олдоса Хаксли. Опять такой же контраст, контраст между чрезмерной уверенностью и разочарованием, между человеком, который наивно верит в Прогресс, и человеком, который родился позже и потому увидел, что Прогресс, каким его воображали на заре авиации, – не меньшее надувательство, чем реакция.
Очевидное объяснение этой отчетливой разницы между ведущими писателями довоенных лет и послевоенного времени – сама война. Подобный поворот происходил бы в любом случае, по мере того как обнажались бы недостатки современной материалистической цивилизации, но война ускорила процесс – отчасти потому, что показала, насколько эфемерен налет цивилизации, отчасти потому, что сделала Англию менее зажиточной и тем самым менее изолированной. После 1918 года невозможно стало жить в таком же узком и уютном мире, как в ту пору, когда Британия правила не только морями, но и рынками. Мрачные события последнего двадцатилетия привели, между прочим, и к тому, что многое из старой литературы вдруг зазвучало современно. Многое из того, что творилось в Германии после прихода к власти Гитлера, словно повторяет последние тома «Упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Недавно я видел в театре шекспировского «Короля Иоанна» – впервые, потому что эту пьесу ставят не слишком часто. Когда я читал ее в отрочестве, она казалась мне архаичной, выкопанной из книги по истории и не имеющей никакого отношения к нашему времени. Так вот, когда я увидел все это на сцене – с интригами и предательствами, пактами о ненападении, Квислингами, людьми, посреди битвы перебегающими к противнику, и прочим, – она показалась мне необычайно злободневной. И примерно то же произошло в литературном процессе между 1910 и 1920 годами. Дух времени наполнил реальным содержанием самые разные темы, казавшиеся устарелыми и выморочными в ту пору, когда Бернард Шоу и его фабианцы превращали – так им думалось – землю в какой-то огромный город-сад. Такие темы, как месть, патриотизм, изгнание, травля, расовая ненависть, религиозная вера, лояльность, культ вождя, вдруг зазвучали свежо. Тамерлан и Чингисхан кажутся фигурами правдоподобными, а Макиавелли – серьезным мыслителем, каким он не казался в 1850 году. Мое восхищение писателями начала 1920-х годов, из которых главные – Элиот и Джойс, отнюдь не безгранично. Их последователи вынуждены были отказаться от многого, сделанного ими. Отвращение к поверхностной идее прогресса повело их в политике по неправильному направлению, и не случайно, например, что Эзра Паунд юдофобствует на римском радио. Но надо признать, что писания их более взрослые, а кругозор шире, чем у их непосредственных предшественников. Они взломали культурное кольцо, в котором Англия существовала около века. Они восстановили связь с Европой, вернули ощущение истории и возможность трагедии. На этой основе развивалась в дальнейшем вся сколько-нибудь стоящая английская литература, и течение, у истоков которого в конце прошлой войны стояли Элиот и другие, еще не иссякло.
Март 1942 г.
Привилегия священнослужителей: заметки о Сальвадоре Дали
Автобиографии можно верить только тогда, когда она обнаруживает что-то постыдное. Человек, представивший себя в благоприятном свете, вероятно, лжет, поскольку жизнь, когда на нее смотришь изнутри, – это просто ряд поражений. Но даже вопиюще лживая книга (пример – автобиографические сочинения Фрэнка Харриса [29]) может, вопреки намерению автора, дать его верный портрет. К этому разряду относится недавно опубликованная «Тайная жизнь» Дали [30]. Некоторые происшествия в ней явно неправдоподобны, другие переиначены и поданы в романтическом ключе. За рамками оставлено не только все унизительное, но и неизбежная обыкновенность повседневной жизни. Дали даже по собственному диагнозу нарцисс, и автобиография его – просто стриптиз в розовом свете рампы. Но как отчет о фантазиях, об извращении инстинктов, порожденном машинным веком, она весьма ценна.
Вот некоторые эпизоды его жизни начиная с первых лет. Какие из них подлинны, а какие вымышлены, не суть важно: что ему хотелось бы сделать – вот что главное.
Ему шесть лет, с некоторым волнением ожидают комету Галлея:
«В ту же минуту на пороге появился служащий отцовской конторы и объявил, что комету прекрасно видно с верхней террасы. Все ринулись к лестнице, я же, парализованный ужасом, так и остался сидеть на полу. Потом, собравшись с силами, встал и очертя голову побежал на террасу и уже у самой двери увидел свою трехлетнюю сестренку – она степенно, на четвереньках двигалась за гостями. Я остановился и после секундного замешательства ударил ее ногой по голове – как по мячу. И, подхваченный бредовым ликованием, которым преисполнило меня это злодеяние, кинулся было на террасу. Но отец, оказывается, шел позади – он схватил меня, поволок в кабинет, запер там и не выпускал до самого ужина» [31] Перевод Н. Малиновской.
.
Читать дальше
![Джордж Оруэлл Скотный двор. Эссе [сборник litres] обложка книги](/books/431073/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres-cover.webp)
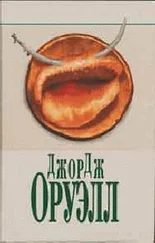
![Джордж Оруэлл - Хорошие плохие книги [сборник]](/books/33144/dzhordzh-oruell-horoshie-plohie-knigi-sbornik-thumb.webp)