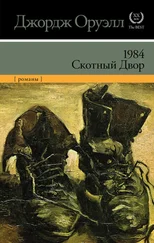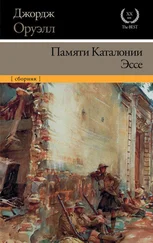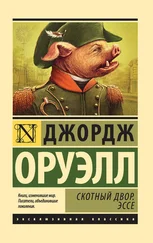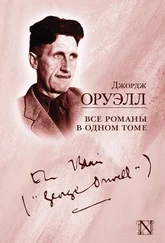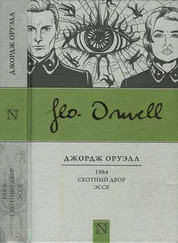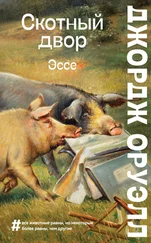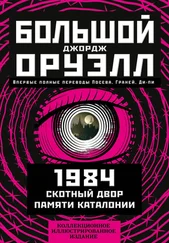Не могу сказать, в каком году я впервые ясно понял, что надвигается нынешняя война. После 1936 года это было понятно уже всем, кроме идиотов. В течение нескольких лет грядущая война была для меня кошмаром, и я даже писал брошюры и произносил речи против нее. Но в ночь накануне того, как объявили о заключении русско-германского пакта, мне приснилось, что война началась. Не знаю, как истолковали бы мой сон фрейдисты, но это был один из тех снов, которые иногда открывают тебе подлинное состояние твоих чувств. Он объяснил мне, во-первых, что я просто испытаю облегчение, когда начнется давно и с ужасом ожидаемая война, и, во-вторых, что я в душе патриот, не буду саботировать или действовать против своих, буду поддерживать войну и, если удастся, воевать. Я сошел вниз и прочел в газете сообщение о прилете Риббентропа в Москву [25]. Итак, война приближалась, и правительство, даже правительство Чемберлена, могло быть уверено в моей лояльности. Нечего и говорить, что лояльность эта была и остается всего лишь жестом. Как и почти всех моих знакомых, правительство наотрез отказалось использовать меня в каком бы то ни было качестве, даже в качестве писца или рядового. Но это не меняет моих чувств. К тому же рано или поздно ему придется нас использовать.
Если бы мне пришлось доказывать, что война нужна, думаю, что я смог бы. Реальной альтернативы между сопротивлением Гитлеру и капитуляцией перед ним нет. И как социалист я должен сказать, что лучше сопротивляться; во всяком случае, я не вижу доводов в пользу капитуляции, которые не обессмыслили бы сопротивления республиканцев в Испании, сопротивления китайцев Японии и т. д. Но не буду притворяться, будто этот вывод основан на эмоциях. Я понял тогда во сне, что долгая патриотическая муштровка, которой подвергается средний класс, свое дело сделала, и, если Англия попадет в тяжелое положение, саботаж для меня неприемлем. Только пусть не поймут меня превратно. Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. Это преданность чему-то изменяющемуся, но по какой-то таинственной причине ощущаемому как неизменное – подобно преданности бывших белогвардейцев России. Быть верным и чемберленовской Англии, и Англии завтрашнего дня, казалось бы, невозможно, но с этим сталкиваешься каждый день. Англию может спасти только революция, это ясно уже не первый год, а теперь революция началась и возможно, что будет развиваться быстро, если только мы сможем отбросить Гитлера. За два года, может быть, и за год, если сможем продержаться, мы увидим изменения, которые удивят близоруких идиотов. Могу думать, что на улицах Лондона прольется кровь. Пусть прольется, если иначе нельзя. Но когда красное ополчение разместится в отеле «Ритц», я все равно буду чувствовать, что Англия, которую меня так давно учили любить – и совсем за другое, – никуда не делась.
Я рос в атмосфере с душком милитаризма, а потом пять скучных лет прожил под звуки горнов. По сей день у меня возникает легкое ощущение святотатства оттого, что не встаю по стойке «смирно», услышав: «Боже, храни короля». Это детство, конечно, но по мне лучше быть так воспитанным, чем уподобиться левым интеллектуалам, настолько «просвещенным», что они не могут понять самых обыкновенных чувств. Именно те люди, чье сердце ни разу не забилось при виде британского флага, отшатнутся от революции, когда придет ее пора. Сравните стихотворение Джона Корнфорда, написанное незадолго до гибели («Перед штурмом Уэски»), со стихотворением сэра Генри Ньюболта «Все затихло на площадке» [26] Руперт Джон Корнфорд (1915–1936) – английский поэт и эссеист. Генри Ньюболт (1862–1938) – английский прозаик, поэт. Здесь речь идет о его стихотворении «Vitai Lampada».
. Если отвлечься от технических различий, обусловленных эпохой, станет ясно, что эмоциональный заряд этих двух стихотворений почти одинаков. Молодой коммунист, который героически погиб, сражаясь в Интернациональной бригаде, был чистым продуктом привилегированной закрытой школы. Он присягнул другому делу, но чувства его не изменились. Что это доказывает? Только то, что кости самодовольного консерватора могут обрасти плотью социалиста, что лояльность к одной системе может претвориться в совсем другую, что для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано.
Осень 1940 г.
Когда я был мальчиком и меня учили истории, – разумеется, очень плохо, как почти всех в Англии, – история представлялась мне чем-то вроде длинного свитка, разделенного жирными черными линиями. Каждая линия отмечала конец того, что называлось «периодом», и то, что наступило после, полностью отличалось от того, что было до, – так ты склонен был думать. Почти как бой часов. Например, в 1499 году ты был еще в Средних веках, где рыцари в латах налетали друг на друга с длинными копьями, а потом вдруг часы били 1500 – и ты попадал в Возрождение, где все носили воротники с оборками и дублеты и грабили корабли с сокровищами в Карибском море. Еще одна очень жирная черная линия проходила в 1700 году. После нее шел XVIII век, и люди вдруг перестали быть «кавалерами» и «круглоголовыми» и сделались необыкновенно элегантными джентльменами в штанах до колен и треуголках. Все они пудрили волосы, нюхали табак, выражались исключительно плавными фразами, которые казались еще высокопарнее оттого, что я не понимал, как они произносили свои буквы «С» и «Ф». Такой мне представлялась вся история – последовательностью совершенно разных периодов, резко менявшихся в конце века или, по крайней мере, в какой-то строго определенный год.
Читать дальше
![Джордж Оруэлл Скотный двор. Эссе [сборник litres] обложка книги](/books/431073/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres-cover.webp)
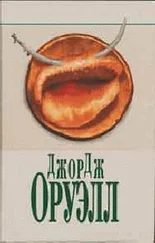
![Джордж Оруэлл - Хорошие плохие книги [сборник]](/books/33144/dzhordzh-oruell-horoshie-plohie-knigi-sbornik-thumb.webp)