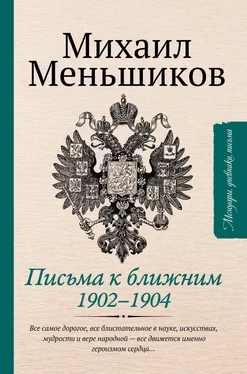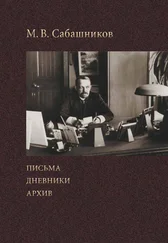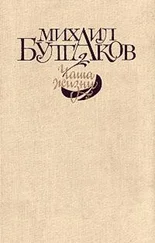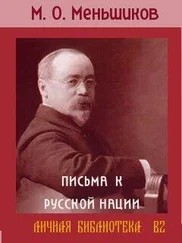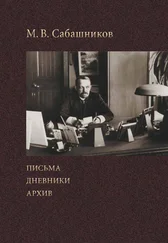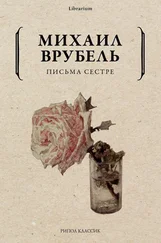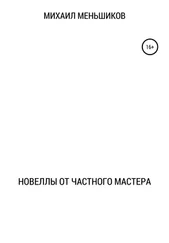Что можно поделать «только деньгами» там, где вы встречаетесь с застарелым невежеством и бытовой бессовестностью? Я говорил в прошлый раз об ужасной палке вместо щипцов, которою бабка ворочает внутри родительницы. Чтобы заменить палку щипцами, нужны деньги. Но при чем тут деньги, если родившегося ребенка начинают, например, парить в бане? Если его «правят», трясут головою вниз, если все тело его розовое и нежное обсыпают солью? Об этих народных обычаях вы можете прочесть в книжке д-ра Демича. В Тульской губернии слабых детей просовывают сквозь расщепленный дубок. В Симбирской кладут исхудалого младенчика на лопату и суют его в печь, где пеклись пироги, причем часто назад вынимают мертвого. Беспокойных детей опаивают маковыми головками, т. е. опием и пр. А разве все эти свивальники, зыбки без света и воздуха, укачивающие до рвоты, – разве это не сплошная пытка? Сама соска из прокислого хлеба – этот бич Божий, уносящий ежегодно более жизней, чем меч Атиллы, сама соска дается не только по недостатку молока, а из суеверия, будто от хлеба ребенок будет крепче. Вот в этих бесчисленных случаях «власти тьмы» нужны ли «только деньги» или еще нечто другое, невесомое, в чем земство и теперь не нуждается, но в чем так нуждается наша одичавшая деревня?
Я вовсе не против земства и его работы. Я от всего сердца желаю земству утроенной, удесятеренной деятельности и всевозможной свободы. Но говорить о «добровольных пожертвованиях» в пользу земства, когда последнее не может собрать даже обязательных платежей, когда землевладельцы целыми десятилетиями не платят недоимок, – просто смешно. Предполагаемый «Союз» не конкуренция земству, как и все действующие в стране союзы, общества, товарищества и т. п. не конкурируют с земством и государством, а помогают им. Это разница!
Я очень рад, что г. К. Толстой присоединяется к «Союзу борьбы с детской смертностью» и даже предлагает ежегодно вносить сто рублей на это дело. Правда, что г. Толстой заявляет, что его участие обусловлено надеждой, что «Союз борьбы» когда-нибудь расширится до размеров той утопии, которую он еще шесть лет назад предложил в органе г. Шарапова.
Что ж, хотя бы с этим условием сто рублей ренты можно принять на доброе дело с благодарностью и без всякой опасности. Жаль только, что г. Толстой решительно не может хотя бы в крохотной степени придержаться точного смысла образующегося «Союза» и наговаривает на него вещи прямо несообразные. Он заводит речь о «централизации», о «регламентации из центра», о «связывании рук» у местных сил, он «протестует» против «придания союзу сентиментально-филантропической окраски и навязчивого, угнетающего местную деятельность характера», протестует против «насилий над местной жизнью». А? Как вам это нравится? Это, действительно, что-то навязчивое. Со всею осторожностью позволю себе заметить г. Толстому, что ведь «Союз» еще не существует, и даже проект его еще не разработан. Если «Союз» будет разрешен, то не иначе как учреждение всероссийское, члены которого особенно желательны на местах, в деревне, из среды той же уездной интеллигенции, из тех «сотен тысяч» (по уверению г. Толстого) барынь и интеллигентов, которые и теперь работают там. Откуда же явилась «централизация», «угнетение», «насилие» и т. д.? Г. Толстой пишет: «Г. Меньшиков напрасно с таким презрением относится к провинции, – она теперь не та, что была при Гоголе». На это замечу: напрасно г. Толстой относится с таким презрением к ясному смыслу русского языка, каким пишутся мои статьи. При некотором уважении к этому смыслу он не мог бы найти и тени «презрения» моего к провинции, которой я сам принадлежу по рождению и воспитанию. Есть, однако, провинция и провинция. Деятельную, сильную, неустанно трудолюбивую, стремящуюся к просвещению и чести – такую провинцию я люблю всем сердцем и хотел бы, сколько могу, служить ей. Но провинцию темную, пьяную, не отрывающуюся от карточного стола, кричащую: «Дайте нам денег! Только денег!» – провинцию, клянчащую о подачках из Петербурга, провинцию, которая хладнокровно смотрит на то, как крестьянские дети мрут потому только, что «в какой-нибудь Ивановке», видите ли, нет средств, чтобы вырыть колодезь, и нужно ждать для этого «пособий» из Петербурга, такая провинция, – пожалуй, достойна презрения. Неужели, в самом деле, как уверяет г. Толстой, если и местный учитель, и батюшка, и земский врач и пр. и пр. хорошо знают, что достаточно простого колодца в данной деревне, чтобы остановить смертность, неужели эти господа не презренны, если откладывают вопрос о колодце до образования когда-нибудь, через тысячу лет, мелиоративного фонда г. Толстого? Неужели местными средствами той же Ивановки уже никак невозможно выкопать яму и положить в ней деревянный сруб? Вы скажете: не так-то легко найти место для колодца! Да, но неужели и это настолько головоломно, что местная интеллигенция не в состоянии это собственными силами оборудовать? Или для этого требуется новый институт «земских гидрологов» с подъемными, прогонными и т. п.?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу