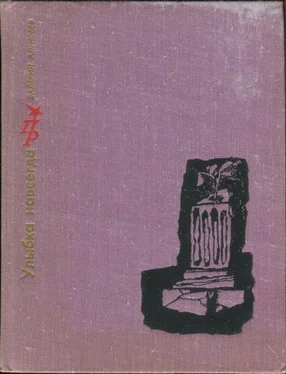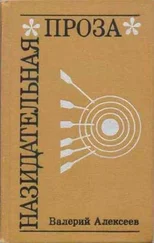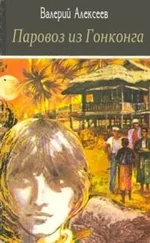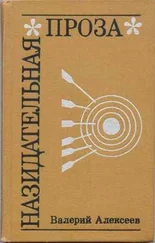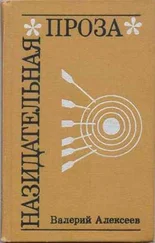— Не хочешь ли ты сказать…
— Просто я знаю: ты будешь жить. А если бы я сомневалась…
— Что тогда?
— Осужденная Иоанниду — в камеру! — скомандовал надзиратель. — Завтрашняя прогулка будет урезана на пять минут.
Вернувшись к себе в камеру, Никос долго не мог успокоиться: поведение Ставроса было явно вызывающим. Раньше Ставрос при всей своей неприязни к осужденным вел себя сдержанно и почти дружелюбно: дядя Костас не позволил бы ему особенно развернуться. Но сейчас что-то не видно было ни старшего надзирателя, ни Мицоса. Несколько раз Никос подходил к двери и прислушивался: в коридоре слышны были только шаги и голос Ставроса, громко отдававшего приказания остальным надзирателям. Что касается дяди Костаса — в его обязанности не входило дежурить в коридоре круглые сутки: он должен был появиться на вечернем обходе. Но вот отсутствие Мицоса было совершенно необъяснимым: сразу после обеда он исчез, хотя сегодня был день его дежурства, Никос был в этом уверен. Долгий тюремный опыт научил его внимательно относиться к смене и перестановкам надзирателей: иногда это было единственным источником информации о реальном положении дел.
Теоретически власти могли пронюхать о том, что афинское подполье пыталось установить контакты с Мицосом. Этот неразговорчивый детина в годы Сопротивления был бойцом Народно-освободительной армии ЭЛАС, сражался с немецкими оккупантами, и, видимо, неплохо сражался. Об этом Никос догадался, прислушиваясь к шуточкам и намекам, с которыми Ставрос, Стелиос и другие надзиратели обращались к Мицосу: они называли его «героем-освободителем», уверяли с издевкой, что ему зачтется, что на его родине ему поставят памятник при жизни, и этим доводили его до исступления. В том, что бывший боец ЭЛАС стал тюремщиком, да еще в таком ответственном секторе столичной тюрьмы, было много необычного: хотя после февраля 1945 года, когда ЭЛАС вынуждена была сложить оружие, многие из андартесов [3] Андартесы — партизаны, бойцы Греческой народно-освободительной армии.
, потеряв политические ориентиры, решили, что борьба закончена, и ушли «в частную жизнь», все они состояли на негласном учете в полиции, и их благонадежность с точки зрения режима была под сомнением. Видимо, Мицосу, чтобы добиться такого теплого и по нынешним временам сытного местечка, пришлось пройти через суровые чистилища, и не только коллеги-тюремщики попрекали Мицоса его партизанским прошлым. Еще во время процесса Никос предупредил афинских товарищей, что ни о какой подготовке побега не может быть и речи, особенно сейчас, когда ожидается решение Совета помилования: побег из отделения смертников, если бы он удался, вызвал бы волну расстрелов, сравнимую с той, которая прошла в начале мая 1948 года, когда подпольщики казнили министра юстиции Ладаса, за что в течение трех дней было расстреляно двести тридцать восемь смертников.
Но товарищи из афинского подполья, видимо, рассудили иначе и установили контакт с Мицосом — контакт, заведомо обреченный на неудачу: Мицос не столько стыдился своего партизанского прошлого, сколько боялся его. Правда, из отрывочных разговоров между надзирателями Никос уловил, что Мицос мечтает скопить деньжонок и податься в Канаду, где у него есть родственники: он не настолько глуп, чтобы ехать за океан с пустыми руками. Но вряд ли человек, за кусок хлеба отрекшийся от самого себя, решился бы рискнуть этим верным куском ради сомнительных, с его точки зрения, денег.
О том, что контакт установлен и не привел ни к каким результатам, Никос догадался по изменившемуся отношению надзирателя. Если в первые дни марта Мицос просто избегал смотреть Никосу в глаза, то позднее он стал держаться угрюмо и злобно.
— Что ты на меня смотришь? — спросил он однажды, снимая с Никоса наручники. — Я тебе не Аргириадис, меня взглядом не прошибешь.
(Ходили слухи, что Никос терроризировал Аргириадиса одним своим взглядом: защитник «пятого номера» твердил, что только под властью гипноза Аргириадис был вовлечен в «шпионский заговор».)
— Да, ты покрепче, — согласился Никос.
— Мне стоило бы слово сказать, — глядя в лицо Никосу, отрывисто проговорил Мицос, — и посыпались бы головы тех, кто на свободе. Я вам не товарищ, запомните. Но я не скажу этих слов: можете на меня молиться.
— Не скажешь, — подтвердил Никос. — Тебе выгоднее молчать.
— Я-то знаю свою выгоду, а вот ты меня удивляешь. Головастый мужик, а не на ту карту поставил.
Читать дальше