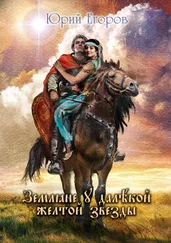Поручик проскакал вдоль понурого строя, и не успел отзвучать цокот копыт, как опять, словно бритвой по сердцу, резанул звук рожка, колючий и резкий, и опять пулеметы ударили по безоружным…
Он очнулся на нарах. Долго лежал, не подымаясь и не шевелясь, томимый удушьем застоялого воздуха, раздираемый обидой и бессилием.
Рана по-прежнему была влажная, пятно постепенно растекалось по нарам. Видно, крови он потерял немало, потому что от слабости кружилась голова и тянуло в сон. И он покорно смежил бы ресницы, если б явственно не услышал отзвуки далекой, далекой стрельбы.
— Не сдались, — прошептал Ангел. — Вранье.
Он оперся на локти, сел, потом, шатаясь, побрей к окну, поддерживая рукою бок и вслушиваясь в неясную, приглушенную дождливой моросью ружейно-пулеметную пальбу.
Недоброе Кукин чуял за версту. Его изглодала тревога: растащат чайную, разбазарят. Смута расползлась по всему свету. За кого сейчас поручишься? Все лезут из грязи в князи. Разве Манька посчитается с тем, что Василиса дала ей, бездомной, приют, в куске хлеба не отказала? Неровен час, отравит Василису, себя хозяйкой объявит. Чем Манька хуже других, если мода такая пошла: вчера — судомойка, завтра — черт знает кем себя наречет!
Появилась у Клавдия Ивановича несвойственная ему раздвоенность. С одной стороны, нетерпение подгоняет. Скорее хочется выяснить, что с чайной? С другой стороны, тормоза невидимые притормаживают: куда спешишь? Крах свой увидеть?
Перед самой заварухой побывал Кукин в кофейне Филиппова, что вдоль Глинищевского переулка вытянулась. Какое богатство! Бюсты из мрамора, фигура, из которой вода прямо в аквариум льется.
И кто он, этот Филиппов, бог, царь, герцог? А спроси в Москве любого — городского голову по фамилии вряд ли назовут, какого-нибудь там архитектора или художника, пусть самого-самого, тоже не назовут, а Филиппова каждый швейцар, каждый приказчик, каждый извозчик, каждый гимназист знает!
Филиппов, Филиппов! Только и слышно: Филиппов. А разве Кукин хуже?
Еще неделю назад были у Клавдия Ивановича такие заповедные мыслишки, подогретые фразой, услышанной на улице:
— Пойдем к Кукину, чайку попьем, на белку поглазеем!..
Четыре дня и четыре ночи не наведывался Клавдий Иванович в чайную. За эти четыре дня в Москве все вверх дном перевернулось. Уж на что он, Кукин, непрошибаемый, но в Кремле насмотрелся на всякое, сдали нервы. Поручил ему штабс-капитан трупы обшарить: «Пощупай, документы собери, авось понадобятся».
От всей этой затеи толку чуть, ничего путного в карманах не нащупал. Оно и понятно — голь перекатная, солдаты да рабочие. Найдешь в кармане махорки на две затяжки — вот все достояние.
А ночью, едва задремал Клавдий Иванович, какие кошмары в голову полезли!
Из Кремля все трупы свезли на Моховую, в подвалы университета. Там-то он и похозяйничал среди них. У одного пятерня растопырена. Ну, пятерня и пятерня, подумаешь, невидаль, а страшно стало. Почему растопырена?
У другого шарил Кукин в кармане, труп как труп, и вдруг шевельнулся он и жалобно, тихо позвал: «Ма-ма».
Клавдия Ивановича потом прошибло, тошнота в горле подступила, руки-ноги похолодели. Живой!
Так вот все это ночью привиделось, и уже не один мертвец, все они зашевелились, задвигались. Кукин задом, задом подался к выходу из подвала, на пути пятерня растопырена, пальцы негнущиеся, сухие, как осенние ветки, ногти синие, мертвецкие!..
А в Кремле — шабаш сплошной. Одни пьют, другие большевиков дубасят, душу отводят. Нечасто бывает, что победу на блюдечке подносят. Ведь ясно: без арсенала, без оружия Советы, как кошка без хвоста.
Переверзев охмелел от удачи. И Кукин рад-радешенек: конец близок. А на другой день Рябцев штабс-капитана затребовал, штабс-капитан Кукина с собой прихватил.
Полковник Клавдию Ивановичу не понравился» маленький, лицо желтое, вялое, как жеваный лимон. На победителя не похож и на командующего не похож. Китель расстегнут, рука пухлая, и на мизинце ноготь длинный.
— Охраной арестованных займитесь лично, — приказал Рябцев штабс-капитану. — Если из Кремля убежит хоть один арестованный, если расскажет рабочим… Москва осатанеет. Глядите в оба!
Сказав это, полковник осекся. Переверзев стоял перед ним, опустив руки по швам, сверкая единственным глазом.
Штабс-капитан не заметил или сделал вид, что не заметил обидный оттенок сказанного.
— Завтра Москва будет у ваших ног, господин полковник, — заверил он.
Читать дальше
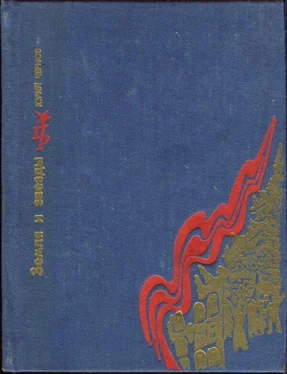
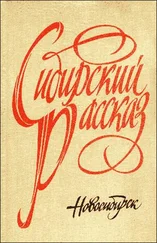




![Андрей Ромашов - Земля для всех [Повесть]](/books/409085/andrej-romashov-zemlya-dlya-vseh-povest-thumb.webp)