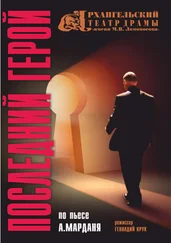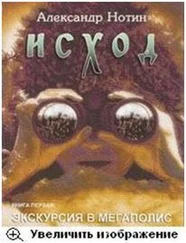В руке Ленина, как я уже это видел не раз, была пустая бутылка из-под водки. Так вот почему дядя Витя и дядя Сережа говорят друг другу: «Ну что, сообразим?» ведь мужик с винтовкой еще только соображает, пить ему с Лениным или не пить, а матрос вроде уже сообразил и согласен выпить водки, смекнул я.
Но легче мне от этого интересного открытия не стало.
Мы шли вниз по узенькой улочке, по бокам ее стояли кирпичные и деревянные старинные домики, а внизу был спуск к реке Гуслянке. Ветер дул оттуда, снизу и справа, и воняло так, как в тот день, когда мама загорелась испечь на шестке яйца в горшке, а яйца оказались тухлыми, они полопались в горшке, и по дому пошла отвратная вонь и смрадный дым, потому что лопнувшие яйца брызнули на раскаленный шесток.
— А меланжевая фабрика все так же смердит, — сказала мама недовольно.
И я понял, что в ее детстве, до войны еще и во время войны, запах от фабрики был такой же. И он всегда будет такой же. И через сто лет, и через тысячу.
И вот впереди — железнодорожный переезд. Не доходя до него, мы свернули в какую-то подворотню с двумя сгнившими столбами слева и справа. Это был вход в детский сад.
— Новенького ведут! Новенького! — услышал я захлебывающийся от предвкушения расправы крик какого-то пацаненка.
Мама и бабушка делали вид, что крик относится вовсе не к их мальчику, а так просто, ни к кому не относится. Они бросили меня возле серого, некрашеного деревянного крыльца, а сами поднялись по нему в обитый досками (видно, что бревенчатый), крытый, как у бабушки, растресканным шифером дом под названием «Детский сад №…». А вот номер-то я и забыл, но память упорно подсовывает мне число тринадцать. Да, вроде именно так — тринадцатый детский сад на улице Алексея Тупицына, это название в честь еще одного убитого черносотенцами егорьевского революционера.
Как только я остался один, беспомощно и беззащитно торчащий посреди голого двора, с нелепо расставленными руками, спеленатый шубой, шарфом и цигейковой шапкой, на меня накинулись сразу несколько детсадовцев.
— Бей шубку! — кричали они.
— Зиму встречаем, лето провожаем!
Все мальчики были в курточках, в кепках или в крайнем случае в вязаных шапочках. «Почему у всех, кроме меня, нормальные мамы и бабушки?» — навзрыд звучали во мне горькие слова, когда я стоял, толкаемый и пинаемый со всех сторон. В лицо не бил никто — это был в нашем возрасте запретный прием, мы тогда еще не могли преодолеть в себе страх перед тем, что у другого мальчика может пойти кровь из носа.
Мимо нас прошел с метлой мужик в телогрейке, с папироской и не заступился за меня, не пригрозил мальчишкам своей длиннющей метлой.
Вышли, чем-то очень довольные, мама и бабушка, и мама сказала, глядя на мое избиение:
— А ты, я вижу, задиристый! Уже, значит, осваиваешься?
Ее голос был неестественным и ломким, я и понял: она лжет, она уже осознала, что нельзя было так меня кутать, что ни один из детей так сейчас не ходит, что теперь со мной никто не будет водиться. Но мама продолжала притворяться, что ничего этого не понимает, она делала вид, что все в порядке, что просто я решил повозиться с мальчиками, что мне весело и очень все это нравится, что это начало нашей дружбы такое вот. И она никогда не признает вслух, что «ухайдакала», как говорила бабушка, всю мою дальнейшую жизнь, всю мою судьбу. С этого дня я буду надломлен, неуверен в себе, я не смогу легко и просто находить друзей, я всегда буду считать себя хуже других, думать буду, что у меня «все не как у людей», я буду скованным и одиноким.
В тот день она бездумно и походя толкнула мою жизнь на тоскливый путь вечного одиночки. Но, может, это было самым лучшим вариантом для меня тогдашнего, посреди всей безвариантности тогдашнего бытия? Может, в том мире самым главным было — сохранять себя в одиночестве?
Как знать, как знать… Я все больше склоняюсь к тому, что да, именно так оно и было. И благое дело свершилось в тот день в моей жизни, благое унижение.
Бабушка, поджав губы, молчала. Может, хоть она будет за меня? Пойдет к заведующей, и всех этих мальчиков накажут, поставят в угол, заставят со мной водиться?
Но бабушка ничего такого не сделала. Холодными, захряснувшими пальцами она принялась развязывать шапку-шар, и взглядам кучковавшихся поодаль мальчишек предстал девчоночий платок, изо всех маминых сил утянутый на моей голове.
— Девчонка! Баба! — зашлись в восторге от моего унижения детсадовцы.
Я увидел, что девочки тоже хихикают, глядя на меня. Одна подошла к моей маме и спросила вежливо, как обычно дети спрашивают у взрослых, сколько времени:
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)