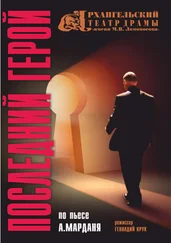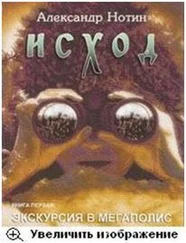— Какая молодая — за что?
А за гробом валом валили бесконечные толпы егорьевцев, от мала до велика, дети гурьбой, старики…
— А где жених-то? Где жених? — жадно спрашивали друг друга женщины вдоль обочины.
— Вон он, вон за гробом идет!
— Да не идет, а несут его дружки!
Помню худого парня в черном костюме, которого и вправду не вели, а несли его товарищи, просунув головы ему под мышки…
А еще я видел краешек тонкого профиля над белой пеной подвенечной фаты, а бабушка, утирая катящиеся градом слезы, повторяла:
— Надо же, вся в газе , вся в газе .
9
Из церкви «упокойников» почти каждый день проносили мимо нашего дома, мимо четырех его фасадных окон. Иногда я насчитывал по шесть-семь гробов за день, спешил доложить эту цифру бабушке — знал, что ей это не все равно. Бабушка всегда очень живо реагировала на такое разовое обилие отправляющихся в мир иной: дескать, надо же, как много людей умирать стало, а я-то все царапаюсь… «Царапаюсь» — на бабушкином языке означало: «держусь пока что, ползу куда-то, к своему неведомому концу».
Редко-редко хоронили с музыкой. Больше всего мне нравился дядька с огромным барабаном спереди живота, он нес его «колесом», и с тех пор, когда бабушка говорила мне: «Вырастешь первым парнем на деревне, ходить будешь — грудь колесом, все девки твои!» — я представлял себе этого дядьку из похоронного оркестра. Он мерно взмахивал колотушкой с черным резиновым набалдашником, и барабан ухал — негромко, но очень густо и внушительно: пумп! А другой рукой дядька изредка, будто наскучив дразнить меня ожиданием, хлопал приплюснутой медной шляпой по другой такой же шляпе, перевернутой кверху дном, как у нищего перед церковью. Улица Курлы-Мурлы оглашалась надтреснутым, звонким дребезжанием.
Конечно, дядька с огромной, помятой и тускло блестевшей загогулиной тоже ничего, и тот, что выдвигает-задвигает узкую трубку с блюдцем на конце…
— И охота родне платить деньги за музыку, — сокрушалась бабушка. — Только душу выматывают.
Спохватывалась:
— Вы меня не вздумайте с музыкой хоронить, так и скажи папе и маме, что бабушка не велела. Нечего деньги переводить. Ведь это с ума сойти — по пятерке на каждого архаровца, да еще по поллитре, да закуску заверни. Эти-то, с трубами, видно, что пузырятся , грудь надсаживают всю дорогу, а с барабаном который — вообще мышей не ловит, идет вразвалочку да палкой своей долбит! Как только не стыдно деньги брать.
Бабушка из разговоров со всякими людьми знала, почем стоит музыка. И я соглашался с бабушкой — барабанщиком быть лучше всего.
Обычно оркестра не было. Как сейчас помню старушечье нестройное пение за окном, достигавшее моего слуха: «Свяаты… ууу…»
— Бабушка, жмурика несут! — кричу я. Это от дяди Вити я услышал такое смешное слово — жмурик. Он и вправду ведь зажмуренный, который в гробу лежит…
Бабушка отрывается от швейной машинки, говорит мне тихо, безо всякой надежды на мое исправление:
— Нехорошо, Саша. Упокойник это, а не жмурик. — Потом встает во весь свой высоченный рост, безмолвно смотрит в окошко на сморщенный старушечий профиль в гробу.
Я ощущаю торжественность момента, тоже умолкаю. За окном, сполохами сквозь реденькие, бегущие облака — солнышко, раскачиваются тонкие ветви плакучей березы. И я верю, что это солнечные лучи колышут и треплют березу, а никакой не ветер — он же не виден и не слышен в избе, нет его, а солнышко — вот оно, его видать, как оно то растопырит пятерню своих лучей, то снова сожмет их в кулак, спрятавшись в облаках.
Я пытаюсь залезть на стул, чтобы лучше видеть упокойника в глубоком узком гробу, но бабушка спохватывается:
— Нельзя через стекло на похороны смотреть, пойдем, Саша, на улицу!
Мужичков-старичков в городе было раз, два и обчелся. Поубивали в войну почти все тогдашнее стариковское мужское поколение. А кого не убили, тот сам загнулся, не дотянув до пенсии: либо нажил себе рак на асбестовом заводе, либо надышался до смерти цементной пылью на заводе ЖБИ, а не то так надорвал жилы в литейке завода «Комсомолец»… Или на рытье котлованов пупок развязался, или отравился с похмела политурой. Или сгинул в лагерях и тюрьмах, отбросил копыта в пьяной драке.
Ну а бабушка на сей раз строчит, согнувшись в три погибели, уже не трусы для дяди Вити и не брюки клеш для соседского пацана Пашки. Нет, бабушка шьет себе саван. Чирикает по-воробьиному ее ровесница, напарница ее и товарка, швейная машинка «Зингер» 1906 года выпуска. На саван бабушка выбрала обветшавший после неисчислимых стирок пододеяльник. Ситцевый, в мелкий горошек. Один угол пододеяльника будет куколем на бабушкину голову, когда она умрет. И теперь бабушка примеряет этот куколь перед зеркалом, прихорашивается с загадочным, таинственным и довольным видом. Иной раз «для ради такого случая» даже берет острые маленькие ножнички и состригает жесткий седой волосок на подбородке…
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)