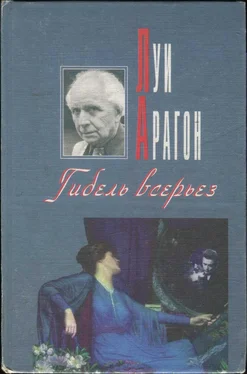Я спросил Бетти совсем о другом. О волнениях. Но не о тех, что в Гамбурге или Берлине. А о тех, на которые жаловались встречные автомобилисты, когда немцы уже ушли, а мы еще не дошли. Нет, в Рёшвоге ничего не было. А вот в Людвигсфесте… — Людвигсфесте? Где это? — В Фор-Луи, если вам больше нравится, совсем близко, несколько километров по Рейну. — Так что же там было, в Фор-Луи? — Она улыбнулась тому, что я предпочел французское название. Как Гёте…
— В Людвигсфесте, — начала она объяснять, — тотчас же стали возвращаться местные пареньки, чьи части стояли на том берегу, прямо напротив. Переплывут себе Рейн — и дома. Без лишних формальностей и бумаг о демобилизации. Были, правда, среди них и неместные. Вот уж праздник был так праздник…
— Карнавал?
— Пожалуй. Ребята устраивали балы, у нас ведь здесь много музыкантов, небольших оркестров… Было уже холодно, но они являлись на танцы по пояс голые, раскрашенные, а некоторые с татуировкой. Местный обыватель перепугался. Служанки бросили работать и только тем и занимались, что крутили любовь с этими душками. А потом пришли французы и всех их забрали. Всех до единого. И теперь сами крутят любовь с душками тех душек.
Что же осталось с раскрашенными парнишками из Форт-Луи? Бетти не знала. Сегодня она занята вышиванием, вышивает на пяльцах пионы и отказывается садиться за пианино. «Я немного простужена…» — горло у нее обмотано бежевым шарфиком. — Бетти, я не понимаю эльзасцев. Как же вы жили до сих пор? — До каких? — она застыла с поднятой Иголкой. — Что вы имеете в виду? — Да под немцами… — Ну-у-у, — она произнесла это «ну-у-у», словно начинала долгий-предолгий рассказ, но ничего больше не прибавила. А потом сказала очень странную вещь: «Жили, а жизнь, ее не расскажешь». — Но все-таки, Бетти, немцы… как вы с ними общались?..
Она слушала меня, брови у нее поднимались, поднимались и были уже не домиками, а одной прямой линией. — Немцы? Так мы же и есть немцы. Кто же еще? Немцы, которые живут в Рёшвоге, как другие живут в Страсбурге, в Мангейме, Берлине, Мюнхене. — Бетти, вы преувеличиваете! — Пьер, интересно, что бы вы ответили, если бы вас спросили, как себя чувствуют марсельцы под парижанами? — Так, значит, вы не чувствуете себя французами? — Нет, конечно. Хотя у нас есть франкоманы, кто-то обожает Париж, кто-то французскую деревню, Луару и мало ли еще что. Но и среди французов есть англоманы. — Но язык, Бетти, язык! — В наших краях всегда говорили по-французски и по-немецки и вдобавок еще по-эльзасски. Так и дальше будет. Конечно, я с удовольствием поеду в Париж и посмотрю «Весну священную». Но и у нас самих есть потрясающие композиторы. Например, Рихард Штраус. Я его видела. Удивительный человек. В Берлине, когда ездила по семейным делам. Во время войны. Моего кузена убили на Мазурских болотах.
Нет, в доме Книпперле меня не поймут, а совершить бестактность я мог на каждом шагу. «Бетти, пожалуйста, сыграйте что-нибудь, вашему горлу это не повредит». Она отставила пяльцы, бросила шерсть на софу. «Опять «Карнавал»? — спросила она. — Только вторую часть, вот эту, помните…» — «Нет-нет, не надо петь, не мучайте свое горло». И она сыграла вторую часть, не подпевая. А когда кончила, я попросил еще, как каприз, как прихоть, из Шумана, знаете, «Haschemann» , «Жмурки»? Да, вот именно — здешняя жизнь не карнавал, она больше похожа на жмурки.
Жмурки по-немецки — «Haschemann» , то есть «Ловец», а по-французски странно: «colin-maillard» — «колен-майар», то есть «Колен-Бердыш». С завязанными глазами мы брошены в море звуков, и что из них вылавливает каждый из нас? У каждого своя цепочка ассоциаций, их не найти ни в одном словаре. Я слушаю Шумана по-французски: представляю себе слепого Колена, жестокую игру, когда зрячие пользуются слепотой бедняги, моей слепотой, — издеваются, предают, обманывают, злоупотребляют дружбой. Наше название жмурок происходит, говорят, от имени знаменитого в Льеже воина, которого звали Колен Майар и которого Роберт Благочестивый посвятил в рыцари в канун нового тысячелетия, когда все ждали конца света; в битве с графом Лувеном он лишился обоих глаз, но продолжал сражаться, и его товарищи, помогая ему, кричали, как кричат в «Haschemann» : «Холодно, холодно! Теплее, теплее! Горячо!» Да, если играть вслепую, мир становится картиной Брейгеля: привычные очертания искажаются, и сквозь них просвечивают чудища, которые прячутся в каждом из нас. Но слепец в жмурках вместе с тем король, который безраздельно распоряжается теми, кого поймает; под предлогом узнавания он вправе трогать, ощупывать девочку, мальчика, тело, душу — добыча в его руках, и Колен-Бердыш, несущийся по Арденнскому лесу, вслепую разя бердышом, вслед за фламандцами, тут уже ни при чем. Игра перестала быть детской забавой. А что представлялось Шуману?
Читать дальше