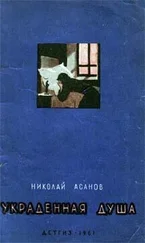— Но церковь отделена от государства, — напоминаю я. — К тому же мы не знаем даже имени этого офицера. И потом он, по-видимому, атеист. Я еще не встречал верующих офицеров.
— Божий меч падает на голову и того, кто бежал от бога, и того, кто смутил его слабый дух. Вспомните Савла! — Настоятельница предостерегающе поднимает тонкий длинный палец с розоватым, ровно отшлифованным ногтем. Слова о Савле обращены, собственно, к господину Джанису, и тот почтительно кивает. К счастью, я знаю эту историю о преследователе христианской секты в языческом Риме, которому бог послал знамение, после чего Савл, приняв имя Павел, стал яростным проповедником христианства…
— Вряд ли господь бог будет посылать знамения советскому офицеру… В наш атомный век чудеса в основном творят люди. Даже из вашего окна по ночам можно увидеть летящий в пространстве спутник.
— Бог может покарать вероотступницу! — Настоятельница вновь поднимает свой указующий перст. — Таким образом будет косвенно покаран и смутитель ее души. Если он действительно любит, как пишет в этих посланиях, — назидательно добавляет она, и мое сердце вдруг тоскливо сжимается.
Я представляю, как неизвестный мне влюбленный узнает, что его любимая исчезла. Что мы знаем о монастырях и о порядках, существующих в них?
Я нечаянно замечаю на обороте одной из записок адрес, написанный энергичным мужским почерком: «Послушнице Софии». Эти два слова заполняют весь листок, тогда как тексты записок на обороте сделаны микроскопическими буковками, чтобы и на малой площади тайного письмеца вместить как можно больше любви и страсти.
— Кстати, мать-настоятельница, эта, как вы говорите, вероотступница даже и не монахиня, а всего лишь послушница. Значит, грех ее не так уж велик, да и душа ее еще не отдана Христу, так что она вполне может стать невестой живого человека.
— Пострижение состоится в среду! — резко обрывает меня настоятельница.
Молчаливый Джанис сухо покашливает, то ли предупреждая ее о том, что мне не все можно говорить, то ли напоминая о своем присутствии. Мать-игуменья молниеносно включает его в свое наступление.
— Господин Джанис не откажется сообщить верующим всего мира о том, как Советская Армия вмешивается в дела церкви!
Этим «господин» она начисто отделяет Джаниса от меня. Только что мы оба были «панове», теперь же Джанис — представитель другого мира.
— Один офицер, мать-игуменья, а не вся Советская Армия, — живо уточняет Джанис. — Мы весьма высоко чтим моральные устои Советской Армии. Она освободила мир от фашизма, в том числе и мою родину… — Эти слова явно предназначены только для меня.
— Но чем я могу помочь, если невесты Христовы предпочитают любовь живого человека? — Я больше не хочу скрывать свою досаду. — За их души отвечаете только вы, настоятельница монастыря. Не могу же я прочитать в вашем монастыре лекцию о том, как грешно любить мирского человека.
Лицо настоятельницы передергивается, но усилием воли она возвращает на него привычную улыбку. Однако голос изменяет ей, он звучит жестко и властно:
— Обратитесь к здешнему командованию, пусть военачальники расследуют этот поступок. Офицер — мне даже стыдно называть его таким высоким словом — переписывается с нашей сестрой во Христе шесть месяцев, значит, он служит в местном гарнизоне.
— Почему бы вам не обратиться самой? — спрашиваю я.
— Мне это неудобно, — отрезает она.
— Да, настоятельнице неудобно, — подтверждает Джанис. — Она не может сказать, что этим делом заинтересовались представители иностранной прессы. Неудобно ей также напоминать и о том, что униатская церковь совсем еще недавно отпала от истинной церкви Христовой и что в Риме и в Ватикане весьма интересуются положением дел в доме отторгнутой младшей сестры… — Эти фразы он произносит напыщенно, и так и кажется, что из-под пиджака у него вот-вот выглянет краешек сутаны католического патера. Но как остроумно все это они придумали!
— Тем не менее вам придется обращаться к командованию самой, — не соблюдая больше никаких правил хорошего тона, отвечаю я. — Впрочем, господин Джанис тоже может попросить аудиенцию у командующего! — швыряю я последнюю мину и встаю первым, хотя это и не положено по правилам хорошего тона.
Все мое любопытство иссякло. Душу тревожит судьба несчастной возлюбленной офицера. Он-то им неизвестен, но ее-то они уже преследуют! Я задаю последний вопрос:
— Могу ли я побеседовать с этой послушницей?
Читать дальше