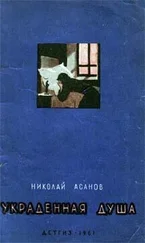Выходя из гостиничного буфета, мы увидели администратора. Он резво бежал навстречу.
— Товарищ Гордеева? — обратился он к Марте. — Вас просят к телефону. Пожалуйте сюда…
Редко мне приходилось видеть, чтобы лицо человека да и вся его стать могли бы так резко меняться. Марта вытянулась, как струна, взгляд стал острым, лицо украсилось оживлением, надеждой. В то же время она словно бы разглядывала мир внутренним взглядом, чувствовала его всеми нервами. Испуганно-радостно и в то же время извиняясь, посмотрела она на мужа. «Но я же не виновата, ведь это не я, а мне позвонили!» — вот что можно было прочитать в этом взгляде. И я хмуро подумал: «А может, и нельзя мешать человеку, который так чувствует другого…»
Гордеев кивнул, словно прощал ее, и увлек меня за собой вверх по лестнице: должно быть, боялся, что я услышу этот разговор, а может, и сам не хотел слышать. Со второго марша он пошел медленнее, будто вся сила ушла от него, ноги переставлял, как ватные. Впрочем, снизу уже слышался голос Марты, окликавший нас:
— Подождите меня!
Она не хотела притворяться, делать скорбное или постное лицо. Ведь все шло так, как ей хотелось. Ей позвонили. Должно быть, она все утро сидела в ожидании этого звонка и теперь была бесконечно благодарна, что он не только позвонил, но и разыскал ее.
— Что мы будем делать? — весело спросила она.
Я опять подивился тому, как может меняться человек. Она уже ничего не помнила из того, что было до звонка. Ее жизнь только что начиналась.
— Мы собирались в музей… — напомнил Гордеев.
— Ну, в музей так в музей! — словно бы пропела она, входя в номер. Но, вместо того чтобы сразу одеться, как сделал Гордеев, надолго замерла у зеркала, оглядывая себя с каким-то веселым изумлением, как будто удивлялась, что ее, именно ее, такую, какой она стоит в зеркале, любят… По-видимому, ее поражало уже не то, что она сама любит, а то, что и тот, бесконечно нужный и дорогой, любит ее…
Было жаль разрушать это ощущение сладкого и легкого сна, но я видел лицо Гордеева, поэтому довольно грубо поторопил:
— Ну что ж, пойдемте навстречу искусству!
Она встрепенулась и заметалась по комнате, похожая на птицу, которая еще только учится летать: движения робкие, неуверенные, а глаза смотрят все радостнее и радостнее. О чем она могла условиться за те короткие минуты, когда стояла наедине с телефонным аппаратом?
Должно быть, эта мысль пришла и мне и Гордееву одновременно. Он спросил:
— А найдут нас, если вдруг окажется, что можно лететь?
— Не беспокойтесь! — ворчливо ответил я.
Мне подумалось, что Марте уже не хочется лететь. Глаза ее мгновенно затуманились, но совсем не так, как это было утром. Сейчас просто пробежала тучка и рассеялась, а утром глаза были тусклыми, как у слепой.
На улице шел тяжелый, мокрый снег, и прохожие были похожи на причудливых белых гномов, которых снег пригибал к земле. Порой из переулка вырывался ветер, и тогда снег летел полосами, как нескончаемый театральный занавес, который тянут и тянут, а сцена все не открывается. Но стоило миновать переулок, как снег превращался в плотную завесу из падающих нитей, будто они тут же и прялись и ткались, и казалось, что вот-вот они опутают и тебя, и здания, и весь город, и все станет неподвижным. Только, звеня и посвистывая, будет падать с крыш и из желобов вода — единственное, что остается подвижным.
На огромной площади, которую невозможно было рассмотреть из-за снега, в низкое небо уперлась башня, стоящая так косо, что страшно было подойти к ней: вот-вот упадет. Башня сторожила вход в музей.
В здании было полутемно от пурги, залепившей окна, — мы выбрали не самое лучшее время для посещения картинной галереи. Обширный притвор бывшего храма, разделенный стендами, и широкие коридоры, и переходы были пусты. Шаги наши звучали, как барабанный бой на площади.
С левой стороны я сразу увидел пресловутую «Месть девушки» неизвестного автора. Исполненное ужаса лицо поверженного мужчины, натуралистические струйки крови, злобно-торжествующее лицо девушки, повернутое к покинувшему ее любовнику, — все было сделано на том пределе, когда трудно определить, искусство ли это, собственно, или только мазня. Скорее все-таки мазня!
Меня поразило то, что большинство картин старой школы было помечено табличками «Художн. неизв.». Да и время написания картин толковалось слишком приблизительно: не десятилетиями, а веками: «XVI–XVII вв.».
Марта Кришьяновна сразу отделилась от нас: ушла в отдел национальной живописи. Я заглянул было туда, но ни картин Чюрлиониса, ни скульптур Петролиса там не увидел, а остальные меня меньше занимали. Я вернулся к Гордееву.
Читать дальше