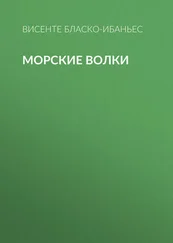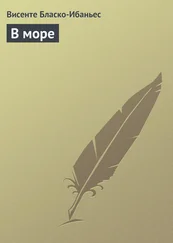— Это ты, афинянин? — спросил Эросион, вставая с недовольным видом. — Ты испугал Ранто своим неожиданным появлением. — И затем он прибавил шаловливо: — Ранто — твоя рабыня, я знаю это. И также знаю, что ты — хозяин гончарни, где я работаю. Ты высоко поднялся с того дня, когда мы повстречались с тобой на Змеиной дороге. Ты теперь вертишь как хочешь Сонникой: любовь сделала ее твоей рабыней.
— Ничей я не хозяин, — ответил грек просто. — Я ваш друг и помню, что первый кусок хлеба, который я съел в городе, я получил из ваших рук.
Эти слова, по-видимому, пробудили доверие Эросиона.
— На что ты смотришь, афинянин? На эту глину? Как ты должен смеяться надо мной! Ты уверен, что из меня не выйдет художник. Бывают минуты, что я чувствую себя способным создать великую вещь: я вижу ее, она как будто стоит во весь рост у меня в голове; а когда запущу руки в глину, то чувствую свою слабость и готов плакать. О, если бы я мог поехать в Грецию!
Он сказал эти слова со слезами в голосе, сердечно глядя на кучку глины, в которой уже начинали обозначаться формы Ранто.
— Если бы ты знал, сколько было разговоров, прежде чем она решилась показать мне божественную наготу своего тела… Не удивляйся, она из племени варваров: она боится посоха своего деда-пастуха, которого бы ей пришлось попробовать, если бы он увидел ее, как тебе пришлось увидеть. Я говорил ей о наших ваятелях, рассказывал, как наши красивейшие гетеры спорили за честь обнажиться перед ними, и единственное, побудившее ее решиться, было то, что ее госпожа Сонника делала то же в Афинах… Но все же, как скопировать ее божественное тело? Как вдохнуть в глину, которую месишь, жизнь, бьющуюся под кожей?
В своем отчаянии юноша угрожал глиняной фигурке, будто собираясь растоптать ее. Все более оживляясь, он сказал наконец решительно:
— Только я сильнее своего неумения. Я буду работать годы и еще годы, если понадобится, пока не воспроизведу во всей красоте божественное тело Ранто. Я не пойду в гончарню, хотя бы старый стрелок избил меня. Я начал свою статую, надеясь, что она появится на Панафейской процессии. Ранто понесет ее на голове, и люди будут тесниться, чтобы увидеть ее. Я жду только минуты вдохновения, счастливого проблеска. Кто знает, не спустятся ли ко мне музы завтра, и я почувствую силу в руках, чтобы выполнить свою мечту?…
И, смело опустившись в водоворот своего воображения, молодой художник поведал афинянину свои мечты:
— Если мне удастся окончить эту статую, будущее — мое: через несколько дней мое имя будут с восторгом повторять на Форуме и в городе. Я навсегда освобожусь от гончарни; после того как весь Сагунт полюбуется моей статуей на празднествах, я подарю ее Соннике, и твоя возлюбленная, такая щедрая, отправит меня на одном из своих судов за море. Я увижу Афины, буду любоваться всем, что ты видел, а потом… потом!.. Взгляни, Актеон через эти листья. Что ты видишь на горах Акрополя? Ничего. Стены из больших камней, колоннады, высокие крыши храмов, но ни одной статуи, что возвещала бы издали о славе города. Говорят, что над афинским Акрополем возвышается гигантская фигура Паллады, вся из бронзы и золота, с копьем, горящим при солнечном свете и светящим, как пламя, морякам, плывущим в море. Правда ли это? И вот мне много ночей снится нечто подобное, и я вижу, как Эросион, великий художник, вернувшись из Афин, воздвигает на нашем Акрополе свое колоссальное произведение — быков Гериона, огромных, с золочеными рогами, сверкающими на солнце, как факелы, а между ними Геркулес, покрытый шкурой Немейского льва, подобно Ферону, его жрецу, в великие Сагунтинские празднества, потрясает в вышине своей палицей, которая будет служить сигналом всем мореплавателям Сукронесского залива… О, если бы мне удалось когда-нибудь осуществить эту мысль!..
Ранто в тунике показалась из своего убежища и боязливо подошла к Актеону, глядя на него с уважением и в то же время краснея при воспоминании о наготе, в какой он застал ее. Эросион, возбужденный рассказом о своих планах, очевидно, желал бы снова приняться за работу. Он смотрел на свое произведение и, казалось, глазами раздевал пастушку, чтобы иметь возможность продолжать.
Афинянин понял, что его присутствие мешает молодым.
— Работай, Эросион, — сказал он. — Сделайся великим художником, если можешь. Скульпторы Афин позавидовали бы твоей модели. Теперь, зная, что вы скрываетесь здесь, я постараюсь не досаждать вам своим присутствием.
Он так и сделал. Он уже не возвращался в рощу смоковниц, чтобы не мешать молодым в их убежище: ему — пылающему честолюбием, ей — покоренной любовью.
Читать дальше